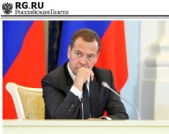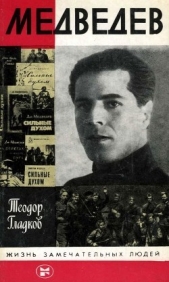Невозможно остановиться

Невозможно остановиться читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто этот хрыч, Малек?
По-моему, — директор института.
А Иван хотел защищать докторскую, да?
Да, готовился. Тише, Теодор.
Ну, и защитил бы — ну, и что? Вот я пишу как бы роман. Ну, и напишу — ну, и что? Ты скоро главврачом станешь — ну, и что? Все это ошибочные ориентиры, Малек. Близорукие мы, ребята! Элементарные штучные задачки решаем. Ване не это надо было. Я знаю, что ему надо было. Он искал, да не нашел. Нина — это его изначальная ошибка, он хотел ее исправить.
Тиш-ше, Теодор.
3. ТУТ И ТАМ
Дальше. Продолжение с дождем. Два дня утекают, оба неблагоприятного медицинского типа. Дни-астеники: ни кровинки у них в лице, ни проблеска улыбки. Низкое небо, сопки в мутной пелене, дождь заливает улицы, дома, кладбище; прохожие пробегают в куртках с островерхими капюшонами, одуванчики зябнут по обочинам, а старуха процентщица, все еще мной не зарубленная, предупреждает, что запас ее на исходе.
Я только с ней знаюсь, да еще с рыбачкой Зиной, постучавшейся наутро после Ваниных поминок. Все объяснимо: Зинина рыжая подруга выгнала ее из дома, а Зине нужно прокантоваться до понедельника в ожидании каких-то бумаг. И вот она является именно ко мне. А может, она явилась, чтобы забрать оставленную часть своего туалета, кто знает? Но Зина, краснея, хихикая, клянется, что позабыла в спешке, а не специально подбросила… почему бы не поверить ей? Она много делает доброго для Теодорова: наводит сияющую чистоту в его кубрике, моет посуду, стирает грязные теодоровские простыни, рубахи, бегает в магазин за продуктами, а он, как сказано, дважды навещает бессмертную бабулю-самогонщицу. В остальное время отходит, отмякает под одеялом.
Еще Теодоров и Зина вместе спят, как давние муж и жена. Иногда они разговаривают.
— Ты к лесбиянству причастна? — спрашивает, например, Теодоров. И поясняет более доходчиво: — Ты со своими товарками спишь?
Зине ничего не стоит соврать, ведь проверить Теодоров не может, не поедет он на плавбазу выяснять это, но она хихикает, ежится, облизывает губы и отвечает, что иногда случается. Они же по шесть месяцев в море, их много, а мужчин дефицит — ну вот. Но она не по своей воле. Иногда такие наглые попадаются, отказать невозможно.
— Да я не осуждаю, — говорит Теодоров. — Ну, и какие ощущения? — спрашивает он как специалист, собирающий материал для массовой брошюрки на эту тему. Объяснить это в точных словах Зина не может. Зато она любит, как ребенок, забавляться Теодоровской игрушкой, даже если та не откликается на ласки, напоминая резиновую тряпочку спущенного воздушного шарика. Она лишь иногда хихикает: «А ты не импотент?»; и продолжает свои шалости: то лижет быстрым кончиком язычка, то теребит, то ласкает языком промежности, а то пристраивается сверху на коленках и вводит в себя, помогая руками, одно за другим драгоценные теодоровские яйца, в которых, думает их хозяин, (либо в левом, либо в правом) таится, подобно кащеевой, его собственная смерть. Теодоров с грустью, как старец за ребенком, наблюдает за Зиной, ничего ей не запрещая. Раз ей нравится, зачем мешать?.. и так у этой Зины жизнь несладкая, а подлинного детства она со своими ублюдочными родителями, как выяснил Теодоров, так и не знала. Он сам изредка, считанное число раз, вступает в игру, то проникаясь к этой беспризорной сочувствием и нежностью, то представляя на ее месте некую командировочную: тогда чернявая, остроносенькая, тонконогая Лиза… да Зина же, Зина!.. так разгорается, так радуется, точно он надарил ей подарков. И уходит в море. Надолго. Или навсегда.
А Теодоров думает: пора мне, Ваня, выйти в люди! Но рождающийся день ничем не отличается от предшественника: такой же болезненно серый, без проблеска улыбки, и Теодоров, отложив выход, заваривает крепкий чай и заставляет себя сесть за стол в прибранной чистой кухне. Интересно, не надеется ли он подсознательно на некое совпадение? Мол, стоит ему только заняться Марусей Трифоновой, как раздастся стук в дверь и появится, как в тот раз, ее нешуточная соперница Елизавета Семенова? То есть не поверил ли он с перепоя, что художественная литература может и вправду влиять на жизнь, согласно партийным приказам соцреализма? Бредовый постулат. Никто не стучит в дверь, не появляется со смиренной улыбкой на губах.
Ну и ладно! Это Теодоров как-нибудь переживет. Но Маруся! Что произошло с ней за эту промелькнувшую неделю? С недоумением и брезгливостью вчитывается Теодоров в ее похождения. Он испуган, сражен, подавлен. Господи! Где же его славная, незаурядная Маруся? Кто и как сумел подменить ее этой примитивной ходульной однофамилицей? Кто, какой злоумышленник, какой бездарь так поработал в отсутствие Теодорова над его рукописью? Неправда правит бал на этих листах. Тошно мне, тошно. Только под угрозой заключения в одиночку можно читать такой текст. И Теодоров, осилив лишь две трети полуфабриката о Марусе, отшвыривает стопку листов. Они разлетаются по кухне и устилают пол, как… как… как обожравшиеся дохлые чайки. Он сидит как мертвый, пока сигарета не обжигает пальцы. Так. Так. Вот так. Значит, все-таки не бесследно проходят его упорные гомерические возлияния? Деградирует, да? Паутина затягивает мозги. С коротким писком массово погибают, как лемминги, нервные клетки. Тускнеет, теряя накал, воображение. Скудеет, лишайсь притока слов, память. Замедляется бег крови. И вот уже потеряно главнейшее — способность к самосуду. И вот уже смелым подъемом на Джомолунгму кажется то, что на самом деле — крутой спуск к бесплодным каменистым плоскогорьям. Иначе как бы он мог допустить такую оплошку с Марусей? Мертворожденная деваха! Сколько дней он, как некрофил, наслаждался ей! Что будем делать, Теодоров?
Илюша выдает мне остатки денег из сейфа. Лучше не считать их: и без того ясно, что с коммерческими магазинами придется подождать. Но поездка на материк еще пока возможна, и я звоню Никодимову. Уполномоченный литфонда изволят острить: наверняка, дескать, сегодня выпадет снег, ибо Теодоров трезв. «Пошел на х..!» — мысленно отвечаю я ему. Не расположен я слушать сегодня ветеранские шуточки. Никодимов один из тех, кто не добреет и не мудреет с возрастом, а наоборот, ожесточается на всех, кто моложе его… вот что странно. Но с путевкой все в порядке. Москва обещает мне отдых в Малеевке, и Никодимов, хочет он того или нет, обязан выдать проездные деньги.
С поездкой, таким образом, проясняется. С Марусей тоже все ясно: ее не воскресить. Марусю надо кремировать, а пепел развеять по ветру. А что мне делать с Елизаветой Семеновой? С ней не разделаешься так просто.
Я звоню в редакцию газеты «Свобода». Отвечает не кто-нибудь, а Суни. Ее-то голосок с легким международным акцентом я способен отличить от других.
— Слушай, — говорю я зло и нетерпеливо, — какого черта ты уехала и…
Сразу же идут короткие гудки: это Суни, не дослушав, бросила трубку. Та-ак! Не желает, значит, кореяночка беседовать со мной. А почему? Одно из двух: или я, будучи невменяемым в тот Ивановский вечер, выгнал ее из дома, или нестерпимо оскорбил другим изощренным способом. Та-ак!
Прошу у Илюши телефонный справочник и набираю приемную редактора. Откликается какая-то девица, секретарша, по-видимому. Я прошу пригласить к телефону Семенову. Очень нужно. Срочное дело. Звонят по междугородной.
— Одну минуту, подождите, — отвечает она. Короткая тишина, а затем:
— Але! Вы слушаете? Ее сегодня, к сожалению, не будет. Что-нибудь передать?
— А она в городе вообще-то?
— Да, она приехала, но сегодня работает дома. Передать что-нибудь?
Не отвечая, я кладу трубку. Та-ак! Работает, значит, дома. Приехала, значит, а зайти к Теодорову не удосужилась, не соизволила, не захотела. Придется, значит, ее кремировать, как Марусеньку… то есть вычеркнуть напрочь из памяти. Все одно к одному. Все одно к одному. Все одно, Ваня, к одному.
— Пойдем выпьем, Илья, — растерянно предлагаю я. Илюша суеверно отшатывается: сгинь, сгинь! Он завязал, и надолго. И мне тоже советует.