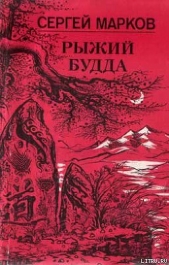Живой Будда

Живой Будда читать книгу онлайн
Поль Моран (1888–1976) принадлежит к числу видных писателей XX века. За свою творческую жизнь он создал более шестидесяти произведений разных жанров: новеллы, романы, эссе, путевые заметки, пьесы, стихи. И это при том, что литературную деятельность он успешно совмещал с дипломатической.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Святые пользуются успехом только в таких странах, где скучно, — вздыхает Розмари. — Но я уверена, что мы восторжествуем. Я объясню своему брату Гамильтону, что позвало меня к вам. У него добрая душа. (Она произнесла это так, как говорят «у него доброе лицо», и так оно и было в действительности.) Он поймет меня. Я последую за вами и буду вам помогать, сколько понадобится.
— Тогда идемте, — сказал Жали. — Уйдем отсюда. Бросьте все. Откажитесь от сумасбродств. Сожгите свои фабричные тряпки, сотканные с потом бедняков: оденьтесь просто. Идемте со мной. Все будут вас уважать, я буду вас защищать. Наши отношения будут абсолютно чистыми: я буду называть вас сестрой.
И Жали, тоже улегшись на траву, братски-любовно приник головой к головке Розмари, как это делают, ласкаясь, кони.
— Нет, я не святой. Я не Совершеннейший, — говорит Жали. — Ведь тень дерева, под которым я сижу, не остается неподвижной подобно тени Священной смоковницы, она не перестает двигаться вслед за солнцем, как всякая другая. Я не могу перейти реку, не промокнув до нитки. У меня ни на руках, ни на коленях нет тех тридцати двух признаков, которые отличают «Тех-кто-уже-не-возродится». И разве вы видите землетрясения, молнии в восхищенных небесах — все то, что должно было бы возвестить, что я близок к просветлению?
— Когда-нибудь я это увижу, — отвечает Розмари.
Она уходит под сень деревьев готовить скромную трапезу. Теперь они обосновались в Марлийском парке, вблизи прудов и земляных насыпей, оставшихся от фундамента когда-то стоявшего здесь и разрушенного замка. Они ночуют в заброшенной телеграфной башне.
«Просветление никогда не придет ко мне, — с горечью думает Жали, — так как я люблю ее и теперь с каждым днем все больше удаляюсь от совершенства. Единственный успех, которого я добился на Западе, был успех у женщин. Это означает, что он легковесен и не имеет будущего. Но как мне ожидать какого-то другого, если я сам теряю себя все больше и больше? Я испытываю удовольствие, покидая вечные истины и погружаясь в хаос и мрак».
— Еда готова, — объявляет Розмари.
Она забавляется такой жизнью, вспомнив детство, проведенное в Иосемитской долине: парусиновые палатки, купанья в ледяной речке Мерсед, форель, переливающаяся всеми цветами радуги, лани, пасущиеся под большими красными деревьями, прямо среди «фордов», укрытых от росы брезентом.
Босая, в белой полотняной одежде, она приносит ему в миске то, что сварила. Как истинная американка, она привыкла обходиться без прислуги. Они садятся — он на пятки — и едят руками.
Жали, ты уже не пребывающий в ожидании несказанного человек: теперь ты — лишь часть пригородной семейной пары, поглощенной едой!
Кваканье лягушек напоминает Жали о Карастре. О, Карастра — восхитительные блюда из свежего имбиря, поджаренных бананов, кокосового молока, которые приносят босоногие слуги. Пока он жил один, он не обращал внимания на свое меню, а сегодня он того и гляди начнет ворчать по поводу сушеной трески: кто не усмотрит здесь верного признака того, что он зажил семейной жизнью? Он старается успокоить себя:
— Разве я не могу, не достигая святости, быть, как и всякое другое созданье, просто вестником Бога? Само божественное — не есть чудо; чудом явится то, что чистое созданье, ищущее истину, обретет ее.
Однако к чему теперь все это? У Жали уже никогда не будет прогресса: в урочный час неизбежно появилась женщина — в момент его наименьшей сопротивляемости, в тот самый миг, когда ослабела центробежная сила милосердия и доброты, приведшая его в первом порыве на другой конец света — на помощь Западу. Запад! Восток! Как далеко было то время, когда он, находясь в обществе Рено, манипулировал этими абстрактными понятиями, считая их гибкими, поддающимися воздействию воли и призвания! Теперь Земля представлялась ему какой-то очень старой авантюрой, чей конец уже давно предрешен, и ей остается лишь довольствоваться преданностью отдельных индивидуумов. Все то, что из Карастры казалось таким ясным, таким простым, здесь спуталось, стало иллюзорным, неразрешимым. Царство миражей — отнюдь не экватор, это — Хэмпстед, это — Сен-Клу.
Какое прекрасное тело у этой дочери Америки! Эти крутые бедра, этот тугой живот, эта кожа — такая белая, с россыпью веснушек, словно страницы полежавшей на солнце книги. Она вся наполнена дремлющими сокровищами. Его невольно тянет к ней, как желтолицых тянет в Калифорнию. Однако Жали старается отвратить от нее свои помыслы.
Лондон. Париж. Несколько различный прием, но результат одинаков: полное поражение. Что ему надо было сделать, чтобы стать «а successful soul winner» — удачливым ловцом душ? Давать людям развлечение. Несчастным нет дела до утешения, обязывающего к новым жертвам. Разве волна увлечения Азией во времена Монтескье и подобная же волна во времена братьев Гонкур захлестнула бы фривольную Европу, если бы вместо нарисованных на вазах китайцев и изображенных на гравюрах японцев ей было предложено строгое следование учению Конфуция или полный текст «Упанишад»? Чтобы в такой век, как этот, заставить принять какие-то суровые правила, надо быть воплощенным божеством.
— Но вы и являетесь им, Жали!
— Нет, Розмари. Я слишком долго ждал. Я уже изуверился. Посмотрите хорошенько: в моих глазах нет ничего сверхъестественного. А разве я неуловим? Разве тело мое неуязвимо для пуль? Несовершенный человек, созданный несовершенной силой, которая, похоже, устремилась к совершенству, но не смогла сделать ничего.
Жали жестом выражает отчаяние.
— Что общего между Парижем и страной, откуда я прибыл, язык которой не имеет даже личного местоимения, где все коллективное, где сама личность человека никак не отмечена? Париж — это тысячи конкретных индивидуальностей, это миллионы идей, «витающих в воздухе», это насыщенная кислородом атмосфера, в которой огонь горит ярче, чем где-либо, зато греет меньше — как на высокогорных плато Тибета! Насколько здесь все стремятся быть и казаться известными, настолько в Карастре все стараются спрятаться под псевдонимом и даже вовсе скрыться за названием своей должности, чтобы не привлекать внимания злых духов. Ведь я рос, окруженный магическими запретами, под постоянной угрозой мистических чисел и неблагоприятных дней, среди служителей, внимательно изучавших форму облаков, придворных гофмаршалов, обязанных следить за оборотнями; как объяснить наши сверхъестественные страхи белым, которые смеются над ними и идут прямо напролом, ничего не страшась? Теперь я знаю, что никогда не буду иметь на них никакого влияния: это они всегда оказывали и оказывают влияние на меня; мне никогда не достичь состояния Будды, никогда не овладеть Знанием.
— Даже если много молиться вместе, Жали?
— Увы! Теперь мне не обрести освобождения.
— Но ведь мы от всего отказались!
— Нет, Розмари. Мы не отказались друг от друга.
— Ну, — неожиданно сказал Жали, — нам пора в путь.
— А куда мы пойдем? — спросила Розмари.
— Неважно куда! Будда предписывает не оставаться на одном месте больше трех дней. Надо ходить. Все, что праведно — тяжело. Жизнь должна быть суровой. Впрочем, что нас удерживает? Мы не принадлежим ни одной стране.
Они покинули Марлийский лес, ступая босыми ногами по первым опавшим листьям. Слышно было, как падают каштаны, как они лопаются, как катятся по земле. В тот вечер их ужин состоял из ежевики, желудей и грибов. Наступила осень, и воспламененные октябрем листья еще долго после захода солнца пылали его светом. На опушке леса в лицо им ударил дувший из долины западный ветер. Ступая гуськом, они пошли по дороге, идущей из Лувесьенна в Версаль. Пошел дождь, было воскресенье. Мокрый асфальт блестел, словно зеркало, в свете фар автомобилей, вереницей возвращавшихся в город. В одну сторону мчались красные огни, в другую — белые, с мерцающими перед ними конусами света, полосатыми от воды. Они шагали по пологому краю дороги, и машины обдавали их брызгами. В Версале Жали предложил направиться в Рамбуйе.
![Амнезия [СИ]](/uploads/posts/books/183167/183167.jpg)