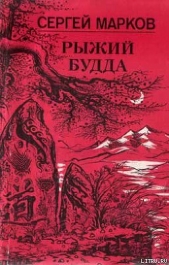Живой Будда

Живой Будда читать книгу онлайн
Поль Моран (1888–1976) принадлежит к числу видных писателей XX века. За свою творческую жизнь он создал более шестидесяти произведений разных жанров: новеллы, романы, эссе, путевые заметки, пьесы, стихи. И это при том, что литературную деятельность он успешно совмещал с дипломатической.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я знала, что вы пройдете здесь, поднимаясь наверх, — сказала она. — Вот ваше платье. Я купила ткань и сама сшила его.
Жали взял, не поблагодарив.
— Прощайте, мадемуазель.
— Нет, не прощайте. Завтра я вернусь. Мне нужен ваш совет. Любить — это плохо?
— Любить — значит попасть в ярмо радости и страдания.
— А можно спастись от гибели, живя простой жизнью?
— Начните с того, чтобы остерегаться желания, словно это — голова змеи.
— А я ничего и не желаю… кроме одного — всегда быть подле вас, — сказала Розмари. И наклонила свою белокурую головку к рукам Жали.
Там, внизу, лежал Париж, вернее — два Парижа: на переднем плане — город американского типа, с суровыми геометрическими пригородами, с прямолинейным движением; за ним — старый французский город с его живыми фасадами, никому не нужными памятниками, похожий своими мягкими линиями на Карастру, где по одну сторону находилось поселение европейцев, по другую — город туземцев. Принцу в глубине души жалко маленькую Францию: представители латинской расы — это те же восточные люди, только в Европе. Ведь у Франции нет выбора: ей придется либо стать американской, либо сделаться большевистской. Жали берет руки Розмари в свои и не отпускает их, а та стоит, склонив голову.
Потом она поднимает глаза и смотрит на него в упор, пока он не начинает таять от ее взгляда.
— К вам, Жали, тоже можно отнести слова, которые вы говорили мне об Учителе: «его улыбка настолько прелестна, что ее одной хватило бы, чтобы переделать мир».
— Он улыбался, потому что страдал…
— А вы страдаете?
— О, Источник Верности, всякий имеющий веру, страдает. Вспомните про Кешуба, Шундер Сена, Павари Бабу, Тагора, про Раму Кришну, отравленного браминами еще в девятнадцатом веке, про Ганди, брошенного в застенки…
Жали крепко стискивает ладонями уши Розмари:
— Глядя на вас, я вспоминаю о встрече Совершеннейшего с женой. «Они узнали друг друга, — гласят тексты, — хотя никогда раньше не виделись»…
— Я узнала вас, Жали, потому что вы — сама мудрость.
— Вы так считаете? Только мудрец может узнать мудреца.
— Во-первых, я слышала, что великие спасители сходят на землю лишь во времена величайших бедствий, — добавляет Розмари. — Теперь как раз ваше время. Я полагаю, вы можете спасти тысячи среди нас, да, спасти целые страны.
Устами Розмари овладела, преодолев путы наследственного пуританства, присущая прозелитам пылкость.
— Здесь никто не стремится быть спасенным. Здесь все повторяют «мудрость исходит от Востока», но никто в это не верит.
— Жали, мне кажется, вас можно сравнить с чистокровным скакуном, избравшим участь крутить мельничные жернова.
— Это — есть порча, которую под именем прогресса Европа наслала на Америку, и та возвращается теперь оттуда обратно к нам.
— Похоже, она движется по одному пути с солнцем?
— Да, идеи, как и города, шагают с Востока на Запад. И как знать? Астрологи в Карастре преподали мне такой магический закон: посвященный убьет посвятившего.
— Вы — праведник, — сказала Розмари. — Запад не приводит вас в восторг, однако вы нисколько не стремитесь отомстить ему.
— Лучше совсем отказаться, как делали наши предки, от знакомства с Западом, чем иметь о нем плохое, ложное и убогое представление.
— У вас в сознании не может быть ничего подобного, — продолжает Розмари, — я ощущаю ваше молчаливое могущество, я чувствую, что вы — спаситель. Мне кажется, вы возносите меня ввысь.
Принц-нищий поднимает на нее испуганный взгляд, зачастую характерный для него, но не лишенный очарования. Несмотря на свою явную невинность, эта ничего не боится. Хотя у нее и нежная кожа, она является достойной внучкой тех людей, что стреляли в салунах из револьвера, не вынимая его из кармана штанов. Он побаивается американок: ведь если его страшат белые мужчины, то что тогда говорить об их женщинах, которые являются их истинными хозяевами, поскольку те живут и трудятся лишь ради них? Все, с чем здесь надо бороться (страсть к переменам и роскошь — это теперешнее обличье дьявола), исходит от женщин.
Розмари не сводит с принца взгляда:
— У вас в глазах, Жали, два волшебных огонька. Сейчас, когда они такие узкие, только их мерцанье и видно. Мне вправду кажется, что я люблю вас.
Следует знать, что собой представляет восточная любовь — с ее долгой подготовительной работой по обольщению, с ее бесконечными знаками поклонения, кои осмеливаются выражать лишь под прикрытием символов, которые рискуют проявить лишь в игре слов, в скромных поэтических намеках, почерпнутых из лучших классических произведений, — чтобы понять то действие, которое произвело на Жали это признание в упор. Он дрожит, стараясь изо всех сил оставаться бесстрастным.
— Не надо меня любить, — отвечает он, — пока я не стану святым.
— В любом случае вы уже — великий человек. А вы любили?
— Я всегда имел подле себя, о Сосуд Добродетели, лишь купленных женщин, женщин-пленниц или тех, кого мне подносили в дар.
Солнце покрывало лаком нежную грунтовку картины, тогда как прекрасный летний день снимал с нее все тени. Буксиры вспахивали воду, бороздя своими винтами отражения стройных тополей. Это был тот самый севрский пейзаж старомодного светло-сиреневого цвета, затасканный «импрессионистами», с которыми, кстати, парижане познакомились лишь благодаря торговцам с улицы Лабоэси [45]. Жали знает, что французы, равно как и китайцы, ненавидят пленэр. Он чувствителен к новизне этой западной природы, красота которой заключается в том, что она сведена до человеческих пропорций, архитектурно правильна и никогда не бывает такой расплывчатой и запутанной, как природа тропиков: волнистые гребни Кламара, Монруж, рисованный сажей, известью, землистой охрой, с играющими на солнце окнами — настоящие инкрустированные зеркальца, как в Сиаме. Вместо гнилой воды, колючих фруктов, чудовищной крапивы — плавная река Сена, просто созданная для галльских песен; вино, откупориваемое в увитых зеленью беседках, жареная рыбка, поцелуи в завитки волос на шее, следы кисти на стволах деревьев и притом кое-где — золотые мазки старых локомотивов — этакие пряжки на Большом Поясе железной дороги. Безмятежные места, избранные судьбой для этой многозначительной встречи двух рас, походили на безвестные деревни, отмеченные на атласе двумя скрещенными саблями в качестве места какой-нибудь исторической битвы или нечаянно прославившиеся благодаря какому-нибудь мирному договору.
Лежа подле него, Розмари отдыхает.
— Отчего вы улыбаетесь, Розмари?
— Почему же мне не улыбаться? Я — дочь счастливого народа, у нас каждый, едва проснувшись, уже напевает.
— А я люблю лишь несчастных.
— У меня много денег, — говорит она. — С их помощью мы будем делать добро. В Америке делать добро стоит бешеных денег. Там нет бедных. Их приходится привозить издалека.
Мистический союз двух молодых, горящих жаром сердец. Их сплетенные пальцы, светлые и темные, походят на клавиатуру. И тут в Жали зажигается свет, гораздо более жаркий, чем тот, который он ощущал в себе до сего дня, и не такой ослепительный, как тот свет, что озарил его над лондонскими крышами — образ Совершеннейшего: этот не заставляет его опустить глаза и пасть на землю, он проникает в него, словно солнце, сквозь все по́ры и греет кровь прямо сквозь одежду. Его темные руки охватывают овальное личико Розмари, гладят ее волосы, ровно подрезанные на лбу ножницами и сами похожие на лезвие. Он не может удержаться от того, чтобы не дотрагиваться постоянно до этой массы белокурого металла. Какой странный новый союз, союз Севера и Юга, Востока и Запада возник под этим парижским небом — небом без богов и без грифов.
— Я больше не останусь в этом месте, — говорит Жали, — здесь стало слишком много гуляющих, мне досаждают любопытные, меня преследуют журналисты. В наши дни скромность стала чем-то таким странным, таким редким, что привлекает всеобщее внимание. Меня считают баснословно богатым, и когда я прошу еды, мне кидают камни. Меня принимают за находящегося на содержании инородца, за факира, за дервиша — глотателя толченого стекла. Говорят, мои рьяные последовательницы там, внизу, доходят до скандалов: теперь они, под тем предлогом, что отдали платья бедным, разгуливают нагишом. Впрочем, Париж просто задыхается от критиканства и умирает от страха опозориться. Ему каждый день нужно новое откровение. Здесь запоминаются только слова, но сам голос, идеи, которые он озвучивает, и суть, породившая эти идеи, — это никого не интересует. Знанию здесь предпочитают неведение, хотя из него равно исходят рождение и траур, привязанность и отчаяние. Рама Кришна сказал, что Христос виден на Востоке лучше, чем на Западе. Зато дьявол виден гораздо явственнее в Париже, чем в Карастре. Безумец! Я борюсь со злом, и это — в городе, где царствует зло!
![Амнезия [СИ]](/uploads/posts/books/183167/183167.jpg)