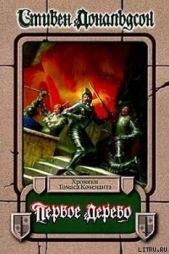Брысь, крокодил!

Брысь, крокодил! читать книгу онлайн
Книга «Брысь, крокодил!» объединила несколько рассказов и повестей писательницы: «Опыты», за которые Вишневецкая получила премию Ивана Петровича Белкина и Большую премию имени Аполлона Григорьева, и ранее написанные рассказы, объединенные теперь под названием «До опытов». Каких только эпитетов не находили критики для прозы Вишневецкой: жесткая, напряженная, яростная, динамичная, экспрессивная, лирическая, надрывная, исповедальная, нервическая… Прозе этого автора подходят, пожалуй, все эти определения. Рассказы Вишневецкой образны и ярки. Читая их, живо представляешь ситуацию, людей в ней и их переживания. Все они написаны в разных манерах, разным слогом, в них пульсируют индивидуальные ритмы, а в каждом рассказе бьется неповторимое сердце его главного героя. Герои — мастер по музыкальным инструментам Альберт Иванович («Начало»), библейский Адам («Своими словами»), подросток Сережа («Брысь, крокодил!»), бездомная алкоголичка и проститутка («Воробьиные утра») — живут своими жизнями, отдельно от автора, как будто никогда и не имели к нему отношения. Это особый талант писательницы — умение стать другим человеком, войти в другую жизнь, заговорить другим языком и всегда при этом оставаться правдивой.
«Опыты» — это девять откровений разных людей, девять историй, рассказанных ими самими, девять непохожих голосов. Все, что знает о них читатель, это их инициалы и то, что они сами захотели о себе рассказать. Но из обычных слов и букв вырастают яркие образы, живые и очень разные люди, и читателю уже сложно поверить, что все это написал один человек. Проза Вишневецкой обладает редким качеством — ее можно и нужно перечитывать, каждый раз открывая новые, не замеченные раньше грани.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не-ет! Мне Олечке еще позвонить! Слышь, а у тебя детки есть?
И внизу живота вдруг как пнули, и ее всю скрутило, а блевать было нечем, только закашлялась тухлым воздухом. И поэтому он ее отпустил. А она уцепилась за мокрое дерево и хватала ртом воздух.
— Такая у меня Оля… хорошая такая девочка, все сама, и братику тоже… и отцу трусики даже стирает! — и не сразу, но вроде как отпустило.
И он тогда ее взял за груди и пожал их немного, и прижался к ней животом. А потом вдруг схватил за плечо и поволок в подворотню, видимо, жил уже прямо тут где-то — и в какой-то подъезд затащил. И зачем-то на лестницу стал заваливать. И тогда она поняла наконец, и пихнула его:
— Не хочу! Я к тебе хочу! — и коленом загородилась от него, и уперлась во что-то — в бутылку в кармане, не моржовый же хрен у него, а такой, как у всех, правильно? — Дай хлебнуть, а? — и ладонью удостоверилась: точно, стекло.
И он без охоты, а все-таки от нее отвалился. Заглушку с бутылочки отодрал, сам стал пить — а чего в чекушке и пить-то? Буквально четыре глотка ей оставил. А она их как только в себя приняла — всё, как клизму ей вставили, поползла на площадку, к мусоропроводу и, как старый баран: бэ-э, бэ-э — всю площадку через рот обдристала. Нижней кофтой утерлась.
— Во дела, да? Надо ехать к тебе. Зубы чистить! — и уже рассмеялась почти, а тут в поясницу вступило — не разогнуться. — Ой, Ты, Господи, прости меня за все сразу!
— Тебя, сука?! Не простит никогда! — подошел, ногой замахнулся, а все-таки пожалел ее, в стену ботинком заехал. — Манда ты брюхатая!
— Я? С чего бы? Нет…
— А сиськи набухшие ни с чего? Жириновский вам скоро покажет, как нашу нацию портить! Всех вас, путанок, стерилизуем!
— Мне помыться бы, и буду стерильная, — ногу его обняла, чтоб не дрался. — Минет тебе сделаю…
А ему, видно, водка в мозги уже шибанула, ботинком ее как пихнет и одним чистым матом туда ее, растуда до седьмого колена, и конец его тоже как прямо от этого распалился, — деток всех ее проклял аж до правнуков, и ей же при этом сует — ведь обидно. И тогда она снова, но уже невзаправду: бэ-э да рэ-э! — теперь не бараном — медведем. И закашлялась, и от этого в самом деле срыгнула немного на штаны ему.
И — как сдуло его. Только за волосы ее схватил и головой — о трубу, о трубу! — но несильно, видимо, и не до крови даже. И как сдуло! Небось, он свой миномет так заряженным и поволок через двор… на руках — мимо-мет свой!
— Витя, слышь? — и от смеха запрокинула голову, и опять тем же местом ударенным — о железо. — Ты меня кинул сегодня, да? А и я тебя кинула! Слышь, Витя? А ты и не знаешь еще! — и опять засмеялась, получилось немного со свистом — из-за щербатого рта.
А узнает, так и последние зубы повыбьет! И пусть. В животе что-то прыгало, как от смеха. Но как будто бы и отдельно. Или билось там, что ли… Если груди набухли, как он говорит, — и пощупала их, вроде правда набухли — это сколько же месяцев может быть? Она Машеньку так вот в подъезде и родила. «Скорая» очень долго не ехала. Люди попались хорошие, вызвали. И тряпок еще нанесли, и одеяльце…
— Вить, а, Вить? Я тебе сына рожу. От хохлов! — и хотела опять хохотнуть, а не вышло: — Вместо Петеньки! Сыночка моего! — и рот ладошкой прикрыла. И в ладонь уже выла негромко, чтобы людей не будить.
А потом прислонилась к шершавой побелке и зевнула. В какой-то квартире заиграли как будто на гитаре… или пластинку поставили… это же дядя Петр, мамин брат, возле ихнего шифоньера — с гармошкой: «А на столе стоит бутылка, полбутылки — виноград. Да прощай, мама, прощай, папа, я уеду в Ленинград!» А мама как будто в окошко к ним заглянула и говорит: «Что же вы дома сидите-то? Людям теперь дозволено летать!» Тося к окошку кинулась, смотрит, небо все, как электроплитка, в огненной спирали, а под нею мама парит в желтом платье: «Это сам Хрущев Никита Сергеевич такой приказ подписал!» — и руками ее к себе манит. И как будто собачка какая-то рядом с ней, пригляделась, а это — их Пират, как очумелый, по небу носится — кругами, кругами. Его баба Ганя неделями с цепи не спускала, говорила: «А чего ему, мышей не ловить!» А Тося тайком бывало его спустит, так уж он носился по стене, по забору — повсюду. И вот высунулась, значит, Тося в окно, чтоб за мамой лететь, а не может. Чувствует, ее кто-то за ноги держит. Оглянулась, а там — дядя Петр, говорит: «Ты, девка, куда это мылишься? Он только мертвым летать разрешил!» А Тося ему: «А как же Гагарин? А Белка и Стрелка?» — «Так они, — говорит, — тоже уже отдуплились!» И как оттолкнет ее на пол, а сам полетел. И сразу маленьким сделался, как младенчик. А мама, такая веселая, в ярком платье, молодая, руки ему навстречу раскрыла, ногами чечетку выбивает и поет что-то, а слов уже не разобрать, потому что голос стал, как у ангелов, звонкий, стеклянный: «Тсинь-тсинь-тсинь!» Как разбитая стеклотара — это в Москве так птицы под утро поют, будто кто стоит под окном и трясет ящиком с боем. А в Песчановке нет, там у каждой птички свой перелив был… И проснулась совсем. Очень ноги замерзли. «А я сидела на диване, вышивала платок Ване, — вот что мама, видимо, пела. — Не дошила пятый номер, и сказали: Ваня помер».
Потянулась с зевком. И вправду уже светало. Дверь где-то хлопнула, и лифт туда побежал. Тридцать тысяч же было вчера… или позавчера? Надо вспомнить — не это, другое, очень важное. Мимо-мет как он нес свой — Витька, сволочь такая, если придет, точно сегодня убьет, — нет, не это… Решила потихоньку подняться посмотреть, может, кто для кошек чего уже вынес. Их в Москве уважают непомерно — и своих, и любых. И одышка взялась непонятно, откуда. И как раз после третьего этажа в пластмассовой банке творожок оказался. Понюхала — вот нисколько незалежалый, и поела его, он еще в молоке был немного разведенный, и выпила.
Жалко, Олечке так и не позвонила, такая она у нее хорошая девочка. Но не это, что-то было вчера поважней. И в карман нижней кофты сунулась, думала денюжка там, а это — жетон от метро. А только кто же его сейчас купит? И пошла вниз, и дальше — через двор. Никого во дворе еще не было, дворник только метлой махал. Он-то точно жетона не купит, куда ему ехать? И под кустик при нем не полезешь. А куст, что обидно, у забора стоял, как специально, высокий и не облетевший совсем. А с других вон деревьев уже сколько листьев нападало. Рано вроде бы… Или, может, пора? Витя правильно говорит, зимовать в Краснодар надо ехать — электричками, чтобы бесплатно. Оторвется он, как же, от своей бизнесменки. И на улицу вышла. И увидела это самое дерево — одно оно было на всю улицу — он ее привалил к нему и говорит… Это он ей сказал что-то важное, этот выбритый. Точно он. Как же вспомнить-то? — и свернула налево, — если он промолчал всю дорогу, чуть плечо ей не вывернул.
А машины вовсю уже ездили. И увидела рядом телефон-автомат. И схватилась за трубку, — если Бог ее слышит сейчас, е-мое, да кого еще Ему слушать, все же спят еще — цифры стала накручивать — одна она Его просит сейчас: ну дай Ты мне с Олечкой поговорить!
«Ой, мамулька моя золотая! Ты знаешь, ты сколько уже не звонила?» — это Олечка скажет, а она ей: «Я, доченька, лечусь. Меня такие врачи хорошие в больнице уколами колют! Я как выпишусь, мы сразу с тобой в парк пойдем. На ракете кататься! Помнишь, как я тебя на ракете катала, а ты маленькая была: на какете какаться! А как Мишенька? Какие он оценки приносит?» Что-то щелкнуло в самом ухе и раздался гудок. И она от волнения вся покрылась, как цыпками, мелким потом.
— Да… Але! — это, видимо, Мишенькин голос был, только хриплый очень, спросонья.
— Але! Это кто говорит?!
И — гудки. Надо было иначе сказать: Мишенька, это я — твоя мама… И ударила трубкой по цифрам, а потом по стеклу. Ведь просила же, Господи, в эту осень, может, первый раз и попросила о чем! И увидела рядом, на полочке очистки от апельсина. Подал, значит, — пусть по-своему, а пожалел. И понюхала их острый запах, и разжевала до кашицы.
— Господи, прости мне все сразу! Я… я лучше! — Если до кашицы, то и не горько совсем. — Ты ведь не знаешь меня! А я лучше! Я очень, например, справедливая, да. И благодарная. Ты мне сделал и я Тебе, только скажи, я, что хочешь — да я в лепешку!