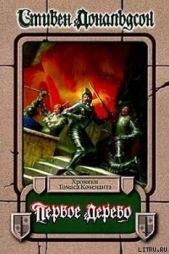Брысь, крокодил!

Брысь, крокодил! читать книгу онлайн
Книга «Брысь, крокодил!» объединила несколько рассказов и повестей писательницы: «Опыты», за которые Вишневецкая получила премию Ивана Петровича Белкина и Большую премию имени Аполлона Григорьева, и ранее написанные рассказы, объединенные теперь под названием «До опытов». Каких только эпитетов не находили критики для прозы Вишневецкой: жесткая, напряженная, яростная, динамичная, экспрессивная, лирическая, надрывная, исповедальная, нервическая… Прозе этого автора подходят, пожалуй, все эти определения. Рассказы Вишневецкой образны и ярки. Читая их, живо представляешь ситуацию, людей в ней и их переживания. Все они написаны в разных манерах, разным слогом, в них пульсируют индивидуальные ритмы, а в каждом рассказе бьется неповторимое сердце его главного героя. Герои — мастер по музыкальным инструментам Альберт Иванович («Начало»), библейский Адам («Своими словами»), подросток Сережа («Брысь, крокодил!»), бездомная алкоголичка и проститутка («Воробьиные утра») — живут своими жизнями, отдельно от автора, как будто никогда и не имели к нему отношения. Это особый талант писательницы — умение стать другим человеком, войти в другую жизнь, заговорить другим языком и всегда при этом оставаться правдивой.
«Опыты» — это девять откровений разных людей, девять историй, рассказанных ими самими, девять непохожих голосов. Все, что знает о них читатель, это их инициалы и то, что они сами захотели о себе рассказать. Но из обычных слов и букв вырастают яркие образы, живые и очень разные люди, и читателю уже сложно поверить, что все это написал один человек. Проза Вишневецкой обладает редким качеством — ее можно и нужно перечитывать, каждый раз открывая новые, не замеченные раньше грани.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тебя буддистка гундосая подучила! Что, скажешь, нет?!
— Бабуля там познакомилась с Авангардом. В парке. На Ланжероне. Она мне даже место на фотографии показала!
— Опять врешь! Она порвала все фотографии, мы с ней вместе их рвали, когда он женился на Катерине! Что ты наделала? Ты понимаешь, что ты наделала? Куда я пойду теперь? Где я буду плакать?! — Саша рычала, била по крыше ладонью, мотала мокрой головой. — Даже неандертальцы приносили на могилы цветы! До сих пор никто не знает, умели они говорить или не умели! А цветы на могилы носили! Ты — чудовище!
Женька пожала плечами:
— Если я окажусь не пришедшей, а проходящей, я тоже скажу своим детям, чтобы они этот… пепел, как пепел, развеяли! — и попятилась. — Так честнее! И Ясик говорит, экологичней.
— Ах, Ясик! Стой! Я кому сказала? Стой!
Остановилась — вполоборота — крутая скула, половинка кривящегося рта:
— А еще он говорит, что все владельцы автомобилей безнравственны, потому что из-за них в Москве невозможно, опасно дышать!
— Наплодил твой папаша уродов! Только и умеете поучать! А вы хоть кого-нибудь полюбите, вы попробуйте, как это!
Дворники бегали по стеклу, собирая дождь в мягкие складки — как у Олега на лбу, — коньяку бы сейчас и под одеяло! Можно даже с Олегом. Даже нужно с Олегом.
Сверкая ногами, Евгения перебегала дорогу. Саша вынула из багажника старое сине-красное пончо, лежавшее там в целлофане на случай, забралась в его льнущее, сухое тепло, оглянулась — Женька тянула на себя дверь пельменной. — Больше поплачешь, меньше попиваешь! — А еще у покойницы была в авангарде… в арсенале то есть… Господи, что же теперь ей в Одессу с цветочками ездить и по парку разбрасывать — как обезумевшей Офелии? Должно быть, и это входило в дурацкий, в иезуитский мамин план!
В моторе опять появился не стук, но какой-то ненужный звучок. Задраив окна, Саша обернулась, дорогу ей перегородила платформа с бетонными плитами. Как ни странно, курить не хотелось — захотелось согреться, разлить там, в районе души, хоть немножко тепла!..
У Авангарда имелась «победа». Была зима. В то утро он взялся подбросить ее, наверно, до школы, сдвинул смешные лохматые брови: «Ничего там не трогать, вредитель Рамзин!» — и засунул ее в занесенную снегом пещеру, в сизый сумрак, как будто в яйцо. Ей было, наверное, лет девять, но все равно стало как-то не по себе. Время страшно тянулось, а потом вдруг раздались скребки, скорлупа дала трещину, возник крошечный синий клок неба — я цыпленок, подумала Саша, я вылупливаюсь, я сейчас окажусь на свете! — огромное темное крыло коснулось наледи над ее головой, и все солнце разом тоже вылупилось ей в глаза. Весь оставшийся день или, может быть, год, Саша знала: с ней случилось чудо. Смешно сказать, она была цыпленком, она пищала от счастья — она оказалась на свете!
Обернувшись и на месте платформы с обломками будущего дома увидев два троллейбуса — отчего-то в Москве они всегда ходят парами, словно бы в одиночку боятся сбиться с пути, — Саша почувствовала дрожь где-то в горле, под связками, так в поезде может ночь напролет дребезжать забытая в стакане ложка — Господи! дай мне сил! — а поскольку все равно сидела лицом назад, поплевала через плечо и, лишь потом сообразив, что плечо было правым, за которым, как объясняла ей в детстве соседка, неотступно стоял ее ангел-хранитель, — Господи! дай до дому добраться! — выехала наконец на Красноказарменную.
Надо было Женьке ответить: какая любовь? почему она в Салехард его одного отпустила? А он-то, старый дурак, все надеялся, с кем только мог, оленину им слал, тушенку, строганину, грибы. Прекратилось все разом — не снеся одиночества, Авангард вызвал к себе тетю Катю, и почти сорокалетняя старая дева — натуральная, что мамой с соседками неоднократно обсуждалось: пробьется ли он один в своем солидном возрасте к заветной цели? (отчего у Саши что-то приятно переворачивалось в животе) Катерина рванулась на Севера… Лет пять или шесть про них не было слышно. А потом, по дороге на озеро Балатон, тетя Катя завезла в госпиталь комиссованного мужа, а генерал, составлявший ей компанию, оставил при Авангарде своего шофера. Почему-то дня два или три этот Степа ночевал у них в кухне — до того белобрысый, ни бровей, ни ресниц, и так окавший, что всякое его слово, точно буханка теплого хлеба, приятной тяжестью прижималось к груди. Ночью Саша ходила смотреть, как он спит, а когда смотреть надоедало, хлопала дверцей холодильника, открывала кран, но этим будила только маму. Она стискивала Сашину руку своей, железной, — избыток сил воплем «уже и попить в своем доме нельзя?!» рвался наружу — белобрысенький Степа чмокал губами и переворачивался на другой бок. Утром, повыше закатив рукав халата, Саша показывала ему два синяка и, видя, как Степа тревожно сглатывает слюну, шепотом поясняла: «Вы не могли бы сказать одному пацану, что я — ваша девушка, чтобы он от меня отвалил?» — «Вы меня извините, не мог бы. Потому что у меня подполковник больной на руках!» — и от краски, добегавшей до самых его волос, от первого в ее жизни «вы», от сытности слов, набитых, будто мешки, налитыми, хрумкими баранками, Саша чувствовала, что жить без него теперь не сможет. Степа съехал, она рыдала, мама тайком ходила в больницу, Саша кричала, что выследит ее все равно, тая и разглаживая под подушкой украденный у Степы в последнюю ночь белый носовой платок, Авангарда, кажется, облучали, потому что он умер — Катерина успела перевезти его к матери в Краснодар, — кажется, в ту же самую осень. Или не в ту же. Слишком все это было от Саши тогда далеко — у нее уже цвел буйным цветом роман с Гришаней, долговязым, печальным и все более ускользающим. Она совала в его дверную ручку сначала поздние астры, потом самые первые подснежники…
В горле снова задребезжала какая-то жилка. И такая же — под левым коленом. Исполнительница бабушкиной воли? Скромница, послушница? — Саша ехала следом за «газиком», не желая от него отстать, не гонясь, а просто не желая, — маленькая ведьма, слетавшая на шабаш в Одессу! — что же она — руками его рассыпала, полуобморочная и ликующая? ничего не осталось святого! а старший папочкин сын еще и благословил! поколение уродов! — от мелькания дворников зарябило в глазах. «Газик» резко метнулся влево. Через долю секунды она влетела двумя передними в яму, тормозить было поздно, ноги сами — кретинка! — влепились в сцепление и тормоза — мать твою! — ее развернуло, повело как по льду — увидеть дерево! — но кружить не кружило — просто вынесло на тротуар — до ствола оставалось еще метра четыре. Сердце ломилось в грудную клетку. А ведь руль она вывернула сама! Из-за ливня собак и детей не гуляли, старушки не ползали, как они это любят, от молочного к булочной и обратно — обошлось. Только руки дрожали и взмокла, как курица. Надо снять это чертово пончо. И продать эту чертову «волгу» — не иначе Отарик соскучился, к себе их обеих зовет.
Из ствола дерева — кажется, это был тополь — тянулся вверх нелепый прут с несколькими глянцевыми листиками, мокрыми и оживленными непогодой. Обошлось. Она хлопнет, как только приедет, двести граммов коньяка. А за ужином примет еще и с Олегом и утянет его за собой, а потом, уже после всего она скажет: «Как ни странно, вы были правы!» — «Кто, Сашара?» — «Ты и твой обожаемый идиот!» — «Ты о ком так?» — «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» — «Ах, князь Мышкин. Конечно. Конечно! Я всегда тебе говорил! И тебе, и Алешке!» — и заснет в тот же миг с идиотской блаженной улыбкой. А она всей еще гудящей, еще воркующей с ним плотью будет чувствовать, что жива, что живее сейчас всех живых. И дай ему Бог, дураку, здоровья.