Записки кинооператора Серафино Губбьо
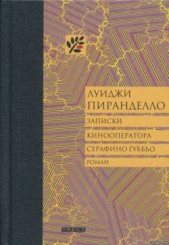
Записки кинооператора Серафино Губбьо читать книгу онлайн
«Записки кинооператора» увидели свет в 1916 году, в эпоху немого кино. Герой романа Серафино Губбьо — оператор. Постепенно он превращается в одно целое со своей кинокамерой, пытается быть таким же, как она, механизмом — бесстрастным, бессловесным, равнодушным к людям и вещам, он хочет побороть в себе страсти, волнения, страхи и даже любовь. Но способен ли на это живой человек? Может ли он стать вещью, немой, бесчувственной, лишенной души? А если может, то какой ценой?
В переводе на русский язык роман издается впервые.
Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский драматург, новеллист и романист, лауреат Нобелевской премии (1934).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Отомстить? За что?
— За нанесенную обиду, которую женщина нелегко прощает.
— Да какая она женщина, эта…
— Бросьте, она женщина, господин Нути! Вы хорошо знаете женщин, знаете, что все они одинаковы, особенно в этом.
— Какая обида? Не понимаю.
— Послушайте, Джорджо был целиком поглощен своим искусством, да или нет?
— Да.
— На Капри он встретился с этой женщиной, и она стала для него объектом созерцания, идеальной моделью.
— Да, умышленно.
— Он не видел, не хотел видеть в ней ничего, кроме тела, которое мог ласкать кистями на холсте, в игре цвета и света. Вот тогда она, обиженная и рассерженная, решила отомстить ему и соблазнила его. Я с вами согласен! Соблазнив его, она, из желания сделать месть еще более жестокой, не отдавалась ему до тех пор, пока Джорджо, ради обладания ею, не предложил ей руку и не отвез в Сорренто, к бабушке и сестре. Не так ли?
— Нет, в Сорренто — это она потребовала, это было ее требование!
— Ладно, пусть так. Я мог бы сказать: обида за обиду. Но теперь не скажу, теперь я хочу придерживаться вашей версии, господин Нути! А сказанное вами заставляет меня думать, что она попросила Джорджо представить ее бабушке Розе и сестре, с тем чтобы найти предлог для разрыва с ним.
— Разрыва? Но зачем?
— Так ведь она уже достигла цели! Месть состоялась! Джорджо был побежден, ослеплен, захвачен ею, ее телом до такой степени, что собирался на ней жениться! Этого ей было довольно, большего не требовалось! Все остальное — свадьба, совместная жизнь, которая наверняка сразу же привела бы его в отчаяние и заставила раскаяться в содеянном, — все это принесло бы несчастье обоим, брак стал бы для них обузой… Вероятно, она думала не только о себе, ей и его было жалко.
— Вы так полагаете?
— Да вы ведь сами меня в этом убеждаете, сами заставляете так думать! Вы же считаете эту женщину коварной! Послушать вас, синьор Нути, так ее поведение оказывается нелогичным для коварной женщины! Представьте только: коварная женщина, которая потребовала свадьбы и с такой легкостью отдалась вам еще до замужества…
— Отдалась мне? — вскричал Нути и вскочил, загнанный моей логикой в тупик. — Кто вам сказал, что она отдалась мне? Да она никогда не была моей, никогда… Вы думаете, я мог на это надеяться? Мне нужно было только доказательство, что с нее станется… доказательство для Джорджо!
Я на минуту опешил и смотрел на него разинув рот.
— И эта гадюка сразу предоставила доказательство? И вам ничего не стоило его заполучить? Стало быть, стало быть… простите…
Я считал, что победа наконец-то в моих руках и вырвать ее не удастся. Мне еще предстояло усвоить, что именно в тот момент, когда логика, сражаясь со страстью, полагает, будто победа непременно останется за ней, страсть внезапно вырывает у нее эту победу и пинком прогоняет ее со всем набором разумных доводов и выводов.
Какие тут еще могут быть доводы, если несчастный Нути, охмуренный этой женщиной и преследующий вполне очевидные цели, не смог обладать ею и в теле его засела злость после всех страданий, которые выпали ему на долю? Маленький, глупенький паяц из тщеславия счел вначале, что сможет легко обвести вокруг пальца такую женщину, как Варя Несторофф. Как теперь убедить его в том, что ему лучше уехать отсюда, и заставить его признать, что нет смысла затевать ссору с другим мужчиной и домогаться женщины, которая знать его не желает?
И тем не менее… тем не менее я попытался уговорить его уехать и спросил, чего он наконец хочет и на что надеется.
— Не знаю, не знаю, — крикнул он. — Она должна быть со мной, страдать вместе со мной. Я не могу без нее, не могу больше так жить, один. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы сломить Дуччеллу, я заставил вмешаться наших общих друзей, но ясно, что все кончено. Они не верят моим мукам и отчаянию! Мне нужна опора, я не выживу в одиночку. Понимаете, я схожу с ума, схожу с ума! Знаю, эта женщина — ничтожество, но цену ей набавляет то, что я столько страдал из-за нее и продолжаю страдать. Это не любовь, это — ненависть, это кровь, пролившаяся из-за нее. И раз уж она пожелала утопить мою жизнь в этой крови, то мы оба пойдем на дно, прильнув друг к другу. Терпеть одиночество я больше не могу!
Я вышел из его комнаты, лишив его возможности высказаться, излить душу. Вот сейчас я могу открыть окно и смотреть на звезды, а он там у себя мучается и льет слезы, охваченный злостью и отчаянием. Если б я вернулся к нему и с радостью воскликнул: «А знаете, господин Нути, на небе есть звезды. Вы точно об этом забыли, но звезды есть!» Что бы случилось?
Скольким мужчинам, затянутым в омут страсти, угнетенным, раздавленным нищетой или грустью было бы неплохо вспомнить, что выше потолка есть небо и на нем — звезды, даже если это и не приносит им религиозного утешения. Когда мы смотрим на звезды, исчезает, словно в бездне, растворяется в пустоте галактик наше немощное ничтожество и любая причина страданий начинает казаться смехотворной, пустой. В минуты тревоги и волнения следовало бы думать о звездах. Я — думаю, потому что с недавних пор смотрю на мир и на себя самого как будто издалека. Если бы я вошел к Нути и сказал, что на небе есть звезды, он попросил бы передать им пламенный привет и выгнал бы меня, как шелудивого пса.
Разве после всего этого я могу быть его стражем, как хотелось Полаку? Представляю, каким взглядом смерит меня Карло Ферро, встретив в компании Нути на «Космографе». Но, Бог свидетель, у меня нет оснований предпочитать одного другому.
Я предпочел бы, с привычной бесстрастностью, продолжать работу кинооператора. Я не стану смотреть на звезды через распахнутое окно. Увы, с тех пор как на «Космограф» заявился этот треклятый Земе, я и на небе уже вижу кинематографические чудеса.
II
— Выходит, дело серьезное? — с загадочным видом спросил, войдя ко мне комнату, Кавалена.
Бедняга держал в руках три носовых платка. После долгих выражений соболезнования этому чудесному «барону» (то бишь Альдо Нути) и рассуждений о бессчетных, как морские песчинки, людских несчастьях он, в качестве доказательства, развернул передо мной три носовых платка — сперва один, потом второй, затем третий — и воскликнул:
— Вот, полюбуйтесь!
Все три платка были в дырах, точно изъеденные мышами. Я смотрел на них с досадой и удивлением, ясно давая понять, что происходящее мне невдомек. Кавалена чихнул — или мне показалось, что чихнул. Нет, это он сказал:
— Пиччини.
— Собачка?
Он прикрыл глаза и кивнул с трагическим величием.
— Старается, надо понимать, — заметил я.
— И при этом я не имею права сказать ей ни слова! — воскликнул он. — Это единственное живое существо в доме, чью любовь чувствует моя жена и чьего коварства она не опасается. Ах, господин Губбьо, природа — чрезвычайно гнусная штука, нет человека несчастнее меня. Ну разве не несчастье иметь жену, которая твердит, что любима только собачкой! Это ложь, знаете ли. Эта тварь не любит никого! Но жена ее обожает, и знаете почему? Потому что только с этой тварью она чувствует, что ее сердце исполнено человеколюбия. И какое утешение это приносит ей, вы бы видели! Тиранша становится рабыней старой, гнусной твари, которая… вы ее видели… образина, ноги кривые, глаза гноятся. И жена любит ее тем сильнее, чем непримиримее становится вражда между мной и этой тварью. Вражда, вражда, господин Губбьо, непримиримая! Эта мерзкая тварь знает, что находится под покровительством хозяйки и я никогда не осмелюсь дать ей пинка, такого пинка, что у нее кишки выползут, мокрого места от нее не останется, клянусь вам, синьор Губбьо! Вот она и творит всякие пакости, даже глазом не моргнув. Изгадила весь ковер в моем кабинете: на улице специально ничего не делает, а приходит домой — усаживается прямо посреди ковра и пакостит! Разваливается в креслах, на канапе в кабинете; от еды отворачивается, но глодает мое грязное белье. Вчера вот изгрызла три носовых платка, а до того — рубашки, салфетки, полотенца, наволочки… И, заметьте, надобно этим восхищаться и говорить собачонке спасибо, ведь все эти пакости моя жена воспринимает как проявление любви. Точно, точно. Это означает, что она чует запах хозяев. Как такое может быть, вы мне объясните? А если она смолотит половину приданого? При этом я обязан молчать, махнуть рукой и смириться, в противном случае у жены появится предлог сказать мне: ты — скотина. Именно так! Какое счастье, говорю я себе, какое счастье, что я — врач и как врач обязан понимать: эта безумная любовь к животному есть одно из проявлений болезни. Типичное, знаете. — Он прервался ненадолго, глядя на меня в нерешительности и смущении; потом, показав на стул, спрашивает: — Вы позволите?


























