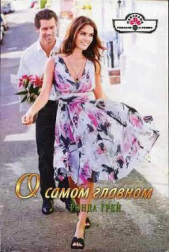Гувернантка

Гувернантка читать книгу онлайн
Стефан Хвин принадлежит к числу немногих безусловных авторитетов в польской литературе последних лет. Его стиль, воскрешающий традиции классического письма, — явление уникальное и почти дерзкое.
Роман «Гувернантка» окружен аурой минувших времен. Неторопливое повествование, скрупулезно описанные предметы и реалии. И вечные вопросы, которые приобретают на этом фоне особую пронзительность. Образ прекрасной и таинственной Эстер, внезапно сраженной тяжелым недугом, заставляет задуматься о хрупкости человеческого бытия, о жизни и смерти, о феномене страдания, о божественном и демоническом…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прижавшись лицом к занавешенным окнам, мы жадно ловили каждое слово, а Васильев опять закричал: «Проснись! Открой глаза!» Ответом ему была тишина, но потом — да! — шепот, ее шепот? — сонный, ленивый, слова были будто чересчур тяжелы, чтобы вырваться из уст: «Не буди меня… Дай покой душе… Уйди…», но был ли это ее шепот, она ли это говорила, или он от ее имени упорно повторял сочащимся ненавистью шепотом: «Не буди меня, проклятый… Я свой путь знаю… Ты мне его не укажешь…» — «Что? — крикнул Васильев. — Что?! Я из тебя изгоню бесов! Проснись! Тебе говорю, встань! Ты меня паче отца родного будешь слушаться!» Я дернул ручку, но запертая на засов дверь даже не дрогнула, а там, за стеной, заклубились, переплетаясь, два шепота, точно два диких зверя после схватки в темноте жаловались на свои раны. Но ее ли это шепот? Ее ли этот глухой, налитый кровью шепот, в котором так мало человеческого? Русские, немецкие, польские слова мешались, а два этих голоса — мрачный, церковный, разносящийся эхом панихиды и другой, птичий, похожий на крик подстреленного ястреба, — чьи это были голоса? «Откройся! — кричал один голос. — Тайну сердца раскрой божьему человеку!» — «Ничего! Ничего нету! — кричал другой голос. — Тебе до меня не добраться! Ничего нет!», а я с упавшим сердцем дергал дверную ручку, чтобы наконец оборвать эти невнятные приглушенные крики. Потом вдруг все стихло. Мы затаили дыхание. Тишина. Как будто они переместились в глубь дома, как будто захлопнули за собой четыре двери. И внезапно — плач. Тихий. Прерывистый. С громкими всхлипами, как плач забившегося в угол ребенка, бессловесные рыдания… Она? И слова, спокойные, протяжные, напевные: «Ничего ты не можешь… Слишком далеко тебе до меня… Не достанешь, даже если захочешь…» И голос Васильева: «У тебя виски горячие, как огонь… Я тебе говорю: открой глаза. Вот так! Так, хорошо! Видишь меня?» — «Вижу, — хрипло прозвучало в ответ. — Ты тот, кого я жду. Ты меня вылечишь…» — «Да, — шептал Васильев, — это я, не закрывай глаза! Открытыми держи! Смерть уже от тебя убегает! Видишь ее? Она все слабее, а в тебе сила растет, большая сила, ты теперь всегда такой будешь…» Что-то стукнуло, тень на занавеске, свет заколыхался — схлестнулись две птицы, удары крыльев… «Ты теперь сильная, защищайся…» — «Да, я сильная, я и тебя сильнее, — отвечал хриплый шепот. — А Бог неживой, совсем неживой, бездыханный — я видела, — упал на землю и лежит близ города. Бедненький, ниоткуда помощи…»
Дверь внезапно распахнулась. Васильев тяжело дышал, платье на груди было разорвано, серебряный крест покачивался на цепочке. «Забирайте ее! — крикнул он. — Забирайте, проклятую!» Он держал панну Эстер за плечо, как ребенка, пойманного в церковном саду, она стояла безвольная, рассыпавшиеся волосы, размазавшаяся кровь в уголке рта, глаза были открыты, только дыхание она не могла перевести, будто что-то застряло в горле. Ян вытащил из кошелька империал, но Васильев схватил золотую монету двумя пальцами, презрительно швырнул в темноту. «Забирайте! — кричал он, стоя посреди веранды. — Чтоб глаза мои ее не видели!» Мы подхватили панну Эстер под руки, а она разразилась злым сдавленным смехом, мотая головой то вправо, то влево, поблескивали серьги, в неестественно широко раскрытых глазах сверкали белки.
Мы повели ее на улицу, она спотыкалась на дорожке. Больше не смеялась. У дверцы коляски внимательно на нас посмотрела: «Александр? Ты что тут делаешь? Почему так темно? Почему ночь?» Я целовал ей руки с горькой радостью, ведь — пускай и не такие нам хотелось услышать слова — что-то в ней дрогнуло, что-то, несомненно, сломалось, что-то раскрылось. «Все хорошо, не надо ничего говорить». Я укрыл ее пледом.
Коляска тронулась. Дом Калужина остался позади. Краем глаза я посмотрел на отдаляющуюся веранду. Женщина в вышитой рубашке подошла к Васильеву. Поправила разорванное на груди платье, выровняла цепочку с крестом, пригладила волосы. Потом, обняв, повела его в дом. Они скрылись в дверном проеме, который озарился золотистым светом лампы и вдруг погас.
Площадь перед церковью в Орске
«Значит, вы видели Васильева? — советник Мелерс отложил книгу на кушетку, когда я в среду вечером пришел к нему на Розбрат. — Ну и что о нем думаете? — Я подробно изложил, что произошло в доме на Петербургской, он, выслушав, только погладил бакенбарды: — Жизнь Васильева весьма любопытна и к размышлениям над важными общечеловеческими проблемами склоняет», — когда же мы, усевшись у самовара, попивали чай из чашек, а часы на башнях пробили девять раз, стал рассказывать об этом — как он выразился — «человеке, которого не всегда легко понять, столь далеко его поведение выходит за общепринятые рамки».
«Я много о нем слыхал, Александр Чеславович, у нас в Петербурге он очень известен, можно сказать, знаменит, с князьями водит знакомство и в души людские неизменно вносит смятенье. Взять, к примеру, начало его взрослого существования… Говорят, он уже смолоду вознамерился испытать всякую разновидность жизни, все познать и через все пройти. И первым делом отправился в пустынь под Нижнетагильском, дал в церкви обет молчания, отчего немало натерпелся, ибо даже тяжелейшие унижения вынужден был сносить молча, без единого слова. Потом принялся ходить от деревни к деревне, босиком, в одной рубахе зимою и летом. И с чрезвычайной легкостью проливал слезы. Не раз видели: идет по степной дороге и плачет. Христовы истины возглашать не в монастыре желал, а средь людей, оттого монашеский клобук надевать не стал, хотя вроде как уже был монахом. Позднее с Урала двинулся на запад, ибо было ему видение, будто его ждут в Царицыне, а кто ждет, сам не умел сказать.
А призван он был — как говорили мужики, повстречавшиеся нам с доктором Лебядниковым на реке Косьве, — иконой из церкви в Орске, на каковой увидел святую надпись, что шевелилась, будто из живых букв составленная, и, хоть читать не умел, все понял.
По слухам, он был очень одинок. Ночью плачет, о землю бьет челом, прямо жалость берет. А днем на улицах говорит о Боге. Но как говорит, Александр Чеславович! Перед собором в Орске сел на камень и поучает звучным голосом. А в Торопецком монастыре, куда его монахи пустили на ночлег, влез в горячую хлебную печь и, к ихнему ужасу, крошки стал подъедать, громогласно восклицая при этом, что они дары Божьи губят. Путь страданий избрал. Во имя Христово глумился над миром — и где! — в храме, во время богослужений! Народ со всей округи валом валил, чтобы на него взглянуть, а он на площади перед церковью сперва песни непристойные поет, а затем, без переходу, о Боге вещает. Полиция, ясное дело, установила за ним надзор, именовав «Преображенским», и под таковой кличкой он попал в реестры, но трогать его не трогали, ибо для простого люда он был ровно святой. Хоть и говорили, что с молодицами в постели не прочь позабавиться и иной раз благословлял даже шлюх. Да еще восклицал при том, что церковь красоту всемерно почитает!
Когда мы увидели его в Орске на площади, доктор Лебядников в себя прийти не мог. С одной стороны, крайнее возмущение, а с другой, сам мне говорит: “Иван Григорьевич, я в церкви подобных чувств не испытываю, но когда вижу эти толпы, что к Васильеву тянутся… ведь он же простец, тупой, возможно, и темный, однако у людей глаза так и сияют, будто новое солнце на севере взошло. Он народ в горести веселит, пляшет на площади, богохульствует, непристойно обнажается, а святость в нем такая, что прямо в глаза бьет. Как же так?” А я ему в ответ: “Петр Гаврилович, это святая наша Русь глаголет его устами, Русь, о которой позабыли наши сердца. Он из глубины времен выходит и тайну в себе несет, каковую народ наш сердцем угадывает. Умен очень, хоть и неученый, но невзгоды его ждут серьезнейшие, вот увидите”.
Ведь Васильев, он как: то забавляет людей, то кусает! Над телом своим на глазах у всех измывается, словно посреди пустыни стоит, а не на церковной площади! Одежду сбрасывает, остается в чем мать родила, будто Иов какой, в одной лишь набедренной повязке. Святой и дьявол в одном лице!