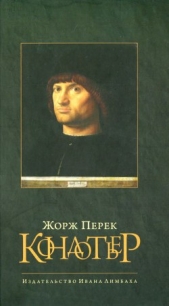Икс

Икс читать книгу онлайн
История прокатывается по живым людям, как каток. Как огромное страшное колесо, кого-то оставляя целым, а кого-то разрывая надвое. Человек «до» слома эпохи и он же «после» слома — один ли это человек, или рождается непредсказуемый кентавр, способный на геройство и подлость одновременно?
В новом романе Дмитрия Быкова «ИКС» рассказана потрясающая история великого советского писателя, потерявшего половину своей личности на пути к славе. Быков вскрывает поистине дантовские круги ада, спрятанные в одной душе, и даже находит волшебную формулу бессмертия…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы бы книжкой одной издали, — сказал Шелестов, не зная, чем ее утешить. — Наглядно было бы.
— Да зачем же, Кирюша, позориться? Я перечитывать боюсь и то, и это! Любовная блажь, революционная — одинаково блажь!
— Я тоже до революции себя почти не помню, — признался он.
— Ну, вам и не надо. Вы прозаик, ваше дело — вбирать мир. А я поэт… была, — поправилась она, — и должна бы хоть что-то иметь, чтобы это выразить, но что же во мне было?
— И вам сейчас ничего своего не нравится? — неуклюже спросил он.
— Нет, почему. Одно стихотворение нравится.
— Прочитайте.
Она помолчала.
— И кто же это написал? — спросил он. — Та или лругая?
— Третья, — сказала она. — Но я ее не видела почти никогда.
Вечером гуляли в степи, Шелестов прихватил восьмилетнего сына — хотелось похвастаться перед Муразовой всеми своими достижениями. Правду сказать, он мало внимания уделял семье, все уходило в «Пороги», но и как же иначе? Не учит ли нас все кругом, включая родную партию, что надо делать свое дело, а на прочее не отвлекаться? Отвлекается ли, например, закат и вообще природа? Думали бы они о человеке — разве у них получалось бы так хорошо? Но сына он захватил, держал за худую ручку, чувствуя смутную неловкость: и сын робел, и самому как будто не о чем было говорить с ним. С Муразовой вот было о чем — хотелось услышать от нее, как обнаглели завистники и как он всех победит; но сын, видно, тоже что-то свое думал и на обратной дороге, когда густо-лиловые тонкие облака на горизонте стали почти черными, спросил вдруг:
— Папа… Почему дураки в Бога верят?
— Ну, не одни ж дураки, — смущенно сказал Шелестов, поглядывая на Муразову с гордостью, а вместе и виновато: он не знал, верит ли она в Бога, точней, верила ли в него Баланова. Муразова-то, конечно, совсем иное дело. Но она взглянула на него с усмешкой и вызовом — то ли ему почудилось в темноте: как-то выкрутишься?
— Ведь нет же ничего, — сказал мальчик уверенно. То ли из школы принес, то ли сам додумался. Если сам, подумал вдруг Шелестов, то плохо.
— Ну как бы это, — начал он, выигрывая время. — Человек же себе объяснить должен как-то. Откуда гром, молния, — это получилось у него очень уж глупо, школьно, и он оборвал себя. — Ты вообще подумай: вот книга есть. Написал же кто-то? И вот это все есть, — он обвел рукой темнеющее грозное великолепие с болезненно-алой полосой последнего закатного света. — Ну и думает человек: взялось же откуда-то?
И он ощутил обиду за Бога, скорее авторскую, чем церковную. Старался, столько натворил — а тут ходит восьмилетний оболтус, от горшка не видно, говорит, что нету. Так же вот и ему говорили, что он ничего не писал, и он убить был готов. Да, использовал материал, и что? Не исключено, что и тут имело место использование материалов, но они носились в пустоте в виде первоэлементов, а стала стройная система, степь, закат, сам Шелестов с его безупречным внутренним устройством, пишущий всякую секунду, даже когда в руке у него не ручка типа вставка, а ручка сына. Потом приходят дураки и говорят: вышло само. Само выходит знаешь что?
— Но как же он тогда терпит? — спросила вдруг Муразова. — Я верила когда-то. Но потом поняла, что не могу. Не моим умом. Сказано же: могущий вместить — пусть вместит. Я не вмещаю. Непонятно, как можно все это видеть и терпеть. И вот хотя бы фашизм сейчас — он как это терпит?
Не надо бы ей при Гришке, подумал Шелестов, ведь в школе разнесет — и пойдут разговоры: поповщина… Он мог, по обыкновению, отмолчаться, но чувствовал, что для Муразовой все это не пустой разговор, что сама она стоит перед трудным решением, о котором он ничего знать не может; и вечная осторожность изменила ему.
— Был у меня разговор с одним попом, — сказал Шелестов медленно, словно продолжая отмерять — насколько можно проговориться. — С нашим попом, да, то есть фактически обновленцем. Помните, были? И вот я тоже ему говорю: ну хорошо, а как он терпит-то? И поп этот мне сказал: ведь он не терпит. На себя-то посмотри. Тебе ведь все дадено, так что же ты спрашиваешь. Себя спрашивай, а не его.
— Но это чистый гностицизм, — сказала Муразова разочарованно, словно ей подсунули давнее и обманувшее снадобье. — Если он не всемогущ, если зло сотворено отдельно и до него…
— Это не совсем, не совсем, — мучительно морщась, словно припоминая старательно забытое, заговорил Шелестов. — Зачем вот вы… — Он хотел сказать «при ребенке», но не в ребенке было дело. — Зачем вот вы так говорите, когда… Ну пусть нет, но какая сама мысль эта интересная! Что он не один, а что, скажем, два! Ведь в этом есть какое-то… я в детстве тоже вот много думал. Смотрите. Мы знаем, конечно, мы это чувствуем, потому что есть же почерк… что не могла одна рука вот эти облака, — он заговорил в рифму и сам на себя обозлился, но остановиться уже не мог и не хотел, — вот эти облака и, скажем, ребенка. Это разные совершенно вещи. И я не думаю, что с Бога, если бы был… вы понимаете, что я это все в порядке сюжета… что с него нельзя спрашивать за грозу, наводнение, что бацилла всякая… Это, коротко говоря, другое дело. Но совесть, человек там, понятия добра и зла… Какое у степи и даже у птицы может быть понятие добра? Но в человеке есть, и с него уже мы можем спрашивать. И тогда уже появляется огромная эта мысль, что нет одного, есть двое. Условно пусть отец и сын, хотя где-то, наверное, муж и жена… Но согласитесь, что если человек до этого додумался, то он уже не так глуп, человек-то? Уже когда древним пришло это в голову, то они ведь поняли главное — что этой степи… и, скажем, мне… нам по-разному дано и разное можно! Я не думайте, я не это! Я просто думаю, как красиво — что эту степь пишет одна рука, а вот нас с вами — совершенно другая, и все, от чего мы мучаемся… все, от чего человек вообще сходит с ума, и любит там, и пишет… все вот от этого зазора! Что мы смотрим на степь и понимаем — она будет без нас. А смотрим на детей или на какую-нибудь рукопись, которая ведь иным и дороже детей, — и ясно, что они без нас не будут! И поэтому, когда смотришь на курган, скажем, на Дон тот же — ты видишь это раздвоение, оно-то в тебе больше всего и болит. Что есть прекрасное, а есть, скажем, грязный ребенок. Я не скажу, что грязный ребенок — плохо, но просто он другое прекрасное. Или вот с любовью, — он понимал, что нужно уже остановиться, но ведь так редко говорил с людьми, так много уходило в книгу — и так никто вокруг ничего не понимал! — Ведь я почему так с этим Панкратом, с дураком… мучаюсь так и его мучаю. Он не Анфису любит! Но Анфиса — в ней то же есть, что в степи этой, не знаю, в птице, в кусте… В ней та есть красота, которую поймать невозможно, и когда он с ней, то он в этой красоте. Хотя она, может быть, и дура. Вот Борисов пишет, что она такая и сякая. Я, думаете вы, не понимаю, какая она? Я и про степь знаю, я вырос в ней, я понимаю отчетливо, что в ней сплошь жесткая трава и все друг друга едят. Но это вместе дает ту ужасную красоту, которую чувствуют люди простые, и чем он проще, чем меньше мешает ему голова, тем, может быть, он больше чувствует. И он хочет ее, хотя умом прекрасно понимает. — Тут он потерял мысль, потер шрам и тряхнул головой. — Да, но я не про то.
— Почему же, — тихо сказала Муразова. — Я знаю.
— Нет, не про то! — Вечно ей, редактору, казалось, что она лучше понимает, чего он хотел. — Я про то, что сама эта догадка — двое вместо одного… она очень, очень хорошо про человечество говорит! Все вообще, что написано, — оно от этого зазора, от щели этой. И все это ожидание — что придет, может быть, третий завет, я читал же, не совсем мы люди темные… оно от того, что все ждут какого-то нового автора, вот он придет и сведет воедино. Сведет, что мне голодно и холодно, что я заброшен, может быть, в снегу, в этой степи, как в седьмой части Панкрат мой… и что в это время — прекрасно! Что степь сверкает, что лед горит, что небо над всем этим как наилучший хрусталь. Придет и сведет, потому что иначе эти двое… два автора, если так уж назвать… они никак не помирятся, и действительно никак невозможно примирить…