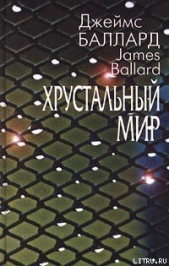Мистер Эндерби изнутри

Мистер Эндерби изнутри читать книгу онлайн
Реальность неожиданно и властно врывается в тщательно оберегаемое одиночество мистера Эндерби в образе энергичной журналистки Весты Бейнбридж. И вскоре лишенный воли инфантильный поэт оказывается женатым респектабельным господином без малейшей возможности заниматься тем единственным, что делает его жизнь осмысленной…
Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлеров Заводной апельсин, Влюбленный Шекспир, Сумасшедшее семя, Однорукий аплодисмент, Доктор болен и еще целого ряда книг, исследующих природу человека и пути развития современной цивилизации.
Без остатка погружен мистер Эндерби в свои стихи, комплексы и страхи. Он с ними сжился и творит как сомнамбула в своем изолированном мире. Но жестокая циничная реальность вламывается в его святилище. И гений терпит поражение в мире, лишенном гармонии. От мистера Эндерби не остается ничего, кроме лучезарно-умиротворенного Пигги Хогга, мечтающего о говядине с толченой картошкой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто предложил брак и когда? Кто кого любил, если вообще; и за что? Эндерби в позе мыслителя на седалище унитаза хмурился на вернувшийся вечер, когда он сидел, заканчивая эпиталаму, в ее двойной гостиной перед внушавшим ему восхищение предметом мебели — перед буфетом, массивным, навощенным, объявлявшим дату (1685) среди резных ромбов и прочих фигур, выдуманных столяром, запечатлевшим свою любовь к гигантскому негроидному корабельному дубу, который формовал и выглаживал. Над буфетом висел портрет Весты работы Гидеона Далглиша; с перламутровыми плечами, высокомерная в бальном платье, она, казалось, вот-вот втянется центрифугой обратно в поджидавшие, но невидимые тюбики с красками. Над открытыми книжными полками фотоснимок покойного Пита Бейнбриджа. Он красиво усмехался в шлеме, сидя за рулем «ансельма» (2493 литра, шестицилиндровый, 250 л. с., дисковые тормоза Джирлинга, карбюраторы Вебер 58 ДКО и т. д.), в котором встретил смерть всмятку. Эндерби начал последний станс:
И почувствовал неожиданный, нежеланный позыв личной, в противоположность поэтической, силы: он, недостойный и некрасивый, наконец, ожил, тогда как талантливый и блестящий красавец вдребезги разбился. Эндерби усмехнулся, позаимствовав у покойника форму усмешки, как бы триумфальной. Веста, читая новый блистательный роман недоучки, оторвала взгляд от своего Паркер-Нолла [51] застала усмешку, и спрашивает:
— Чему усмехаетесь? Что-то забавное написали?
— Я? Забавное? О нет. — Эндерби прикрыл рукопись неловкими лапами, как прикрывают обеденную тарелку от навязываемой второй ложки картофельного пюре. — Вовсе ничего забавного.
Она встала, очень элегантно, посмотреть, что он пишет, и спрашивает:
— Что вы пишете?
— Это? О, по-моему, вам не понравится. Это… Ну, нечто вроде…
Она схватила листок с нацарапанными строчками и вслух прочла:
— Понимаете, — с излишней поспешностью объяснил Эндерби, — это эпиталама. К женитьбе двух взрослых людей.
Она необъяснимо склонила голову со сладко пахнущими волосами цвета пенни и поцеловала его. Поцеловала его. Его, Эндерби.
— Теперь у вас здоровое дыхание, — заметила она. — Телу и душе порой трудно прийти к согласию. Выглядите лучше, гораздо лучше.
Что он мог на это ответить, кроме: «Благодаря вам»?
И сейчас, страдая воздушной болезнью, сидел в этой воздушной уборной, вынужденный признать, что нынешней весной и в начале лета возник новый Эндерби, — более молодой Эндерби, у которого меньше жира и ветров; новые зубы, достаточно несовершенные, чтобы выглядеть настоящими; несколько красивых костюмов; искусно отделанные у «Трамперса» в Мейфэре волосы, деликатно дышавшие «Эврикой»; Эндерби, не столь неловкий в обществе, с поздоровевшим аппетитом без диспепсической страсти к специям и к хлебу с джемом, тщательней выбритый, с более чистой кожей, с остекленевшими от контактных линз глазами. Видела бы его теперь миссис Мелдрам!
Кто упомянул про любовь? Упоминал ли кто-нибудь про любовь? Жили они в целомудрии под одной крышей, как весталки, как феникс и черепаха, и Пит Бейнбридж из некоего Элизиума автогонщиков усмехался над странным дружеским сожительством. Но приходится только подбрасывать да глядеть, как крутится на натертом полу потертая монета, все громче и громче звякает музыкой, вертится, точно мир. Из кармана или из сумочки? Эндерби не помнил, но точно знал, что как-то вечером кто-то из них произнес это слово в той или иной связи, может быть, рассуждая о его инфляции в популярных песнях и в хриплых речах неотложной потребности, может быть, обсуждая его персонифицированную идентификацию с Богом в религиозной поэзии XVII века. Потом начался быстрый процесс, для анализа слишком тонкий и иррациональный, когда кто-то высвистел голубя-ястреба с безопасных высот спекуляций на першу, и в мгновение ока — на пару сомкнутых рук.
— Мне было так одиноко, — сказала она. — Так холодно по ночам.
Эндерби, потенциальный обогреватель постели, оставался по-прежнему потенциальным во время краткого полета к медовому месяцу, ибо жили они до сих пор в целомудрии. До сегодняшней ночи. Сегодня ночью в «Альберто Тритоне» на виа Национале. Чего-то, задыхался Эндерби, следует ждать.
— Эй, вы там, — сказал голос, имея в виду «послушайте». Эндерби приподнялся с крошечного седалища и послушал. — Билет не наделяет вас правом на безоговорочную монополизацию сортира. — Хорошо сказано, признал Эндерби. Голос американский и авторитарный, поэтому он поспешил уступить место, теперь вполне уверенный, что лучше себя чувствует. За складной дверью глубоко задышал, видя крупного мужчину типа туриста, с кивком мимо него протиснувшегося. Бифштексная физиономия и две камеры — соответственно фото и кино — на животе наготове. Интересно, задумался Эндерби, сфотографирует ли он сортир. В иллюминаторе засияла летняя тучка. Он шел по проходу к своей нареченной, холодной, прелестной, сидевшей, глядевшей на летнюю тучку. Она взглянула на него снизу вверх, улыбнулась, спросила, лучше ли ему. А когда он сел, протянула руку. Кажется, начинается новая жизнь.
2
Словно попав в хорошо оснащенную баню, Эндерби был потрясен разнообразными жидкостными ощущениями после посадки в Риме (снижения. Вечный Город: паста, старый хлам, монументальные развалины, каменные крепыши с фиговыми листочками, телятина, Ватикан, лестницы в подвалы, кости мучеников. Все крыто звонким серебром, освежается фонтанами. И желаем всего наилучшего). Он облился холодным потом, когда запоздавший со спуском желудок заставил хозяина увидеть Рим в неком мачехином контексте (папа на картинке на стенке спальни благословляет семь холмов; полупрозрачный образ святого Петра, вставленный в крест с четками цвета бланманже, закладка изданного в Риме служебника с изображением Святого Семейства в виде любителей спагетти среднего класса). Потом трепещущие струи согрели его, покрытая гусиной кожей рука, державшая новобрачную за руку, вновь разгладилась, когда в «Мировых новостях» вынырнуло изображение полногрудой старлетки, плещущейся шутки ради в фонтане Треви. Были там также потасканные красавцы князья, вовлеченные в пакостные бракоразводные дела; Чинечита крупней Ватикана. Собственно, все хорошо, все должно быть хорошо, волнующе, чувственно. Эндерби с гордостью глянул на новобрачную и почуял укол желания, подобный отдаленным слухам о войне, законного желания; на миг она идентифицировалась с этим новым городом, который предстояло, абсолютно законно, пустить на поток и разграбление. Он сказал ей несколько слов, вернувшихся из времен его службы в ВС [52]:
— Io ti amo [53].
Она улыбнулась и стиснула его руку. Эндерби, латинский любовник.
Тепло, волнение, чувство омоложения, благополучно пережитая посадка (стюардесса самодовольно ухмылялась на выходе, как будто сама после полетной беременности произвела аэропорт на свет; американец, который выставил Эндерби из сортира, начал отчаянно щелкать). В клочковатой процессии к зданиям Кьямпино [54], раскинувшимся в жаркой погоде медового месяца, Эндерби, как на чистой странице, видел на плоском голом летном поле формулу своей новой свободы, то есть освобождения от своей старой свободы. Тощий, как Кассий, и мрачный, как Каска [55], таможенник-римлянин грубо дернул «молнию» саквояжа Весты и продемонстрировал всему залу новую ночную рубашку. Мрачно подмигнул Эндерби, что тот принял за доброе предзнаменование, хотя лицо у мужчины было изголодавшееся, и поэтому он доверия не заслуживал. Жирный водитель автобуса, трясясь по Аппиевой дороге, пел какую-то масленую заунывную арию с amore [56], вызывая тем самым доверие. А потом — у-ух! — опять холодная вода, когда солнце заволоклось тучами над мшистым акведуком, развалиной выросшим из сухой травы над старыми плитами, лежавшими, как крупные лепешки дерьма, под рекламой бензина в полосатых комических красках. Американец из сортира кормил свои камеры, словно усевшихся на коленях ручных собачек. Тем временем Эндерби все больше угнетало ощущение путешествия по мясницкой лавке дурной истории средь ребристых скелетов, уже насильно напичканных кусками гнилой империи. Сразу за пределами поля его зрения спокойно стояли ростры, на которых покоились в виде какого-то хора Сенеки усмехавшиеся безносые древние римляне, разжиревшие на сицилийской кукурузе и на крови гладиаторов. Они будут присутствовать в медовом месяце; это их город.