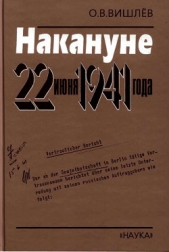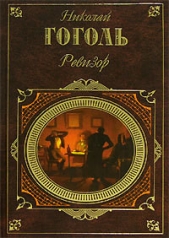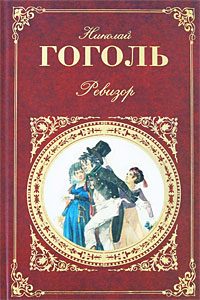Попутчики

Попутчики читать книгу онлайн
Попутчики — украинец Олесь Чубинец и еврей Феликс Забродский (он же — автор) — едут ночным поездом по Украине. Чубинец рассказывает историю своей жизни: коллективизация, голод, немецкая оккупация, репрессии, советская действительность, — а Забродский слушает, осмысливает и комментирует. В результате рождается этот, полный исторической и жизненной правды, глубины и психологизма, роман о судьбе человека, народа, страны и наций, эту страну населяющих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О заключении своём долго говорить не буду. Я знаю, сейчас об этом модно говорить и писать, но тема мне кажется надоедливой, скучной, как разговоры в больнице. Там с утра до вечера только о болезнях главным образом. Эгоистичные разговоры. К тому ж я подписку дал — не разглашать. Скажу лишь, выживал тот, кто сильней и здоровей, или подлей, а если совсем повезёт, то удачливей. Я выжил, потому что мне, помните, ещё до войны не цыганка, а сербиянка гадала и нагадала неудачу в период более спокойный и удачу в период бедственный.
12
Сидел я все семь лет в Заполярье. Четыре года сидел без всякой удачи на лесоразработках, а последние три года с удачей на блатной работе, в цехе, где варились дрожжи от цинги для заключённых. Цех этот был в крепком, деревянном на каменном фундаменте сарае, весьма тёплом от жара дрожжевых котлов. В сарае было светло, шесть больших окон, и на этих окнах я довольно удачно выращивал цветы и помидоры. С этих цветов и началась моя удача. Точнее, с лагерной библиотеки. Хоть и тяжело было, но не совсем я тогда ещё надежду потерял и решил сохранить себя от лагерного озверения и оскотинивания чтением книг. Вспомнил кое-какие книжки из прошлого, вспомнил, что мне покойный старичок Салтыков когда-то рекомендовал. Кое-что нашёл. Гоголя нашёл, сказки Пушкина. Хорошие книжки. Но не пошло у меня чтение. Наш ум ведь то читает, что ему тело позволяет. А моё тело для подобного чтения тогда приспособлено не было. Нашёл Мопассана, почитал, вспомнил Лелю. Однако в тех условиях и Леля не помогла. Знаете, целый день на ветру сучья рубить тяжёлым топором. И вдруг нашёл учебник по выращиванию цветов и овощей в домашних условиях. Начал читать — оторваться не мог. Собственными руками из столярных обрезков сколотил ящики, нашёл плодородной земли, выпросил навоза в конюшне. Семена раздобыть было сложнее, но раздобыл у вольняшек. Кое-кто из них летом огороды имел и сажал цветы. А у меня в сарае круглый год на всех шести окнах цвело и плодоносило. Растущие цветы и овощи на Украине просто часть общего, обыденного. Здесь же это радостные долгожданные гости, особенно для заключённых. Да и для начальства также. Смотришь на цветы, как будто свидание получил с близкими людьми и родными южными местами. Мы ведь в Заполярье все были южные, одни лишь местные эскимосы — люди северные, к цветам безразличные. Климат там, знаете, не для цветения. Местность со всех сторон северным ветрам открыта. Зима с сентября по июнь с морозами до сорока градусов и пургой. Лето очень короткое, прохладное, дождливое, почва всюду мёрзлая. На реке постоянно образуются ледяные глыбы, таящие очень поздно, почти в мае. Снег лежит на земле всплошную, мощным слоем и залеживается тоже до конца мая, а то и до июня. А у меня среди всей этой Арктики Украина на окнах. Посмотрело начальство, одобрило и приняло решение оставить меня на работе при цехе. Учли также и мою хромоту, и моё безупречное поведение в течение первых четырёх лет. В цехе имел я свой ограждённый досками угол, где стояла моя кровать. Впоследствии, уже освободившись, уже на воле не раз вспоминал я и этот свой тёплый угол, и эту свою удобную кровать.
В ноябре сорок девятого к Октябрьским праздникам мне объявили: через месяц будешь освобождён, срок твой кончается. Денег заработал я немного, так как работа моя последние годы хорошая была, но дёшево оплачивалась. Дали мне триста двадцать рублей, дали билет и послали в город Молотовск, который тогда строили на топях. Работал я уже не на территории местного лагеря, а вне ограждения, без конвоя. И снова мне попалась блатная работа: «на бочках». Бочки от мазута мыли, а я их пустые, вымытые в штабеля складывал. И ещё мне повезло, что партнёром моим случайно оказался артист из Кривого Рога, театральный человек. Мы с ним подружились и много о театре говорили. Я ему про своё рассказывал, а он мне про своё. Освободился он раньше меня и сразу же написал мне из Кривого Рога, где опять работал в театре. Поэтому, когда в 1951 году мне было разрешено уехать домой, без права поселения в столичных городах, я поехал к нему в Кривой Рог, чтоб устроиться в театре администратором. Но артист этот сам жил в гримировочной, квартиры у него не было. Побыл я у него всё-таки две недели, отошёл от простуды и поехал искать работу, чтоб не навлекать на этого артиста дополнительной беды. У него ведь, как и у меня, в паспорте на весь листок стояла цифра тридцать семь. Вот с этой цифрой я и поехал искать работу. Был я совсем одиноким, тётка Степка, как выяснилось, умерла, и в нашей хате в селе Чубинцы теперь жил Микола Чубинец, бывший Степкин муж, со своей новой семьёй. Приехал я в город Александрию на Донбассе, прочитав в газете объявление, что там требуются администраторы. Но скоро театр ликвидировали. Всем дали двухнедельное пособие и устроили на работу. А мне, с цифрой тридцать семь, никакого пособия не дали и на работу не устроили. Подумал я тогда, подумал и поехал назад в свои родные места. Там никого, конечно, уже не было из близких и знакомых. Но ведь нигде никого у меня не было. Прошёлся я по родным улицам, всплакнул, повздыхал, пошёл в театр, и меня взяли младшим администратором, несмотря на мою цифру. Взяли на маленькую зарплату и без жилья. Жил я в театре, где придётся: ночью на сцене, в коридоре под батареей, в кочегарке. Однажды даже ночевал в той гримировочной, где когда-то состоялась премьера моей пьесы «Рубль двадцать» с Лелей Романовой и мной в главных ролях. Всю ночь не спал, конечно, голова болела и свои руки не знал куда деть, вперёд протягивал, к груди прижимал — всё неудобно. То радостно мне становилось до слёз, то раздражался до смеха. Текст моей пьесы «Рубль двадцать» исчез, и я о том не жалел. К чему бумажный текст, если всё свершилось наяву, пусть и в одном единственном спектакле? Играть его заново бессмысленно, а писать нечто иное — тем более. Ведь я не писатель, я рассказчик. Я рассказываю о своей жизни, и вы наверно думаете: как черна эта жизнь, как ужасна. Да, черна, да, ужасна, однако не настолько, как вам это кажется. Потому что лучшее, что в моей жизни было, я рассказал только себе. Даже известный музыкант, известный скрипач, любимец публики лучшую часть исполняемой им мелодии оставляет себе. Ту, которую слышит только он и не слышит публика. Это и есть принцип настоящей лирики. Вы со мной согласны?
— Согласен, Олесь, — ответил я, Забродский, глядя ослабевшими от слёз глазами на расплывающиеся привокзальные огни. Миновав Чаховую, мы приближались к станции Казатин.
До революции Казатин был местечком бердичевского уезда киевской губернии. Местечком с почти пятнадцатитысячным населением, имевшим почему-то женскую гимназию, но не имевшим мужской. Очевидно мальчиков-гимназистов возили в Бердичев, девочки же учились дома, в Казатине, маленьком городке при станции, которая уже до революции была крупнейшей на всём украинском юго-западе, с железнодорожными мастерскими и громадным грузооборотом. Это соотношение между городом и станцией сохранилось поныне, когда Казатин числится рядовым районным центром Винницкой области, а станция Казатин известным железнодорожным узлом юго-западной железной дороги, через который можно попасть и на запад, в Киев, Ровно, Львов, и на восток — Москва, и на юг — Одесса, и на север — Ленинград. Однако из всех городов ближе всего к Казатину по-прежнему остался Бердичев, к которому он тяготеет теперь, если не административно, то культурно-экономически. Уже на рассвете отправляются в сорокаминутную поездку к Бердичеву рабочие поезда́ с казатинской рабочей силой для бердичевской индустрии, а в выходные дни молодёжь старается насладиться бердичевскими культурными мероприятиями в пяти ресторанах, на танцах или в доме культуры, особенно когда там гастролирует какая-нибудь киевская или львовская знаменитость, Казатин игнорирующая. В будние же дни казатинская молодёжь в основном ходит гулять на станцию, которой гордятся не менее, чем парижане Эйфелевой башней. Если, конечно, парижане ею гордятся. Надо сказать, что, пользуясь материальными и духовными благами Бердичева, Казатин этот город презирает и над ним смеётся не менее, чем его презирают и над ним смеются все остальные украинские и вообще советские города-антисемиты. Омск-Томск-Новосибирск — всюду знают Бердичев. Презирают за еврейское происхождение, хотя в действительности происхождение и название у Бердичева литовские, а еврейское население, когда-то составлявшее восемьдесят процентов, усилиями богданов и адольфов ныне весьма сократилось и из большинства стало меньшинством среди своего собственного бердичевского украинца и антисемита. Как видите, я между словом украинец и словом антисемит чёрточки не ставлю, даже если просто украинцы среди украинцев-антисемитов составляют абсолютное меньшинство. В конце концов время идёт, и соотношение может измениться. Или уменьшится число антисемитов под влиянием прогресса, или евреи в Бердичеве станут музейной редкостью. Однако пока это всё ещё лишь предположения. Пока ещё евреи в Бердичеве всё-таки есть. Причём в подавляющем большинстве своём это не какой-нибудь современный Барух Спиноза, свечой тающий над толстыми томами в попытках вычерпать ладонью океан зла, не Альберт Энштейн, исчезающий в бесконечности. Нет, пока это всё-таки еврей, желающий попить жизненных соков здесь, на земле, а после сокопития он вполне может бестактно рыгнуть не хуже любого антисемита. Среди бердичевского еврейства ещё попадаются такие первородно глупые экземпляры, что можно оптимистично говорить о жизнестойкости нации в целом и о крушении надежд богданов и адольфов подорвать биологическую основу еврейства, согнать его с плодоносных равнин, с сочного глупого чернозёма и загнать в горы, под облака, где это еврейство, выроднившись в кучку мудрецов-горцев, растворится в собственных раскалёченных мыслях, испарится и прольётся на арийскую землю последним дождём, чтоб, оплодотворив, исчезнуть. Нет, бердичевские экземпляры испарять себя сами ради чужого благополучия явно не собираются, и это радует, хоть, признаюсь, мне, Забродскому, общаться с ними не хочется. Вот он, бердичевский трудовой еврей — Хунзя, Элек, Мунчик. Впрочем, Мунчик — поляк и зовут его Зигмунд, но когда сидят все вместе в сапожных фартуках, стучат молотками по колодкам, протягивают чесночными ртами дратву — попробуй отличить. Заходит Израиль Соломонович, учитель музыки, починить штиблеты, они над его шевелюрой исподтишка посмеиваются. Классовая солидарность. Хунзи и Элеки к своему еврею-интеллигенту относятся так же недоброжелательно, как иваны и ермолаи к своему русскому интеллигенту. «Интеллигент олт дым вейдл ин ды энт» — интеллигент держит хвост в руках. Почему хвост? На идиш из-за рифмы. Но и по-русски не плохо звучит — интеллигент с хвостом, то ли чёрт, то ли пёс.