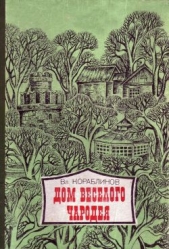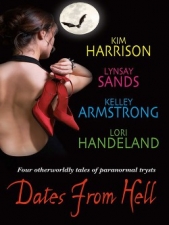Лотос
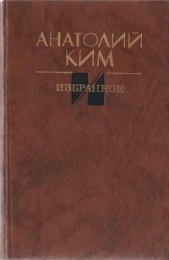
Лотос читать книгу онлайн
«Лотос» — грандиозный экзистенциалистский пассаж, где разыграна тема Большой Смерти, поглощаемой Великой Жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как же это случилось, что с гремящего океанского берега я попал в глухой лес? Словно незаметно для себя перешел границу воздуха и воды и оказался на дне моря, заросшем мхами и высокими соснами. Я вижу мир в истинном свете, в единстве, таким, какой он есть, — и со мною, и без меня. Ярко-зеленые и серебристые пятна мхов на земле словно источают внутренний свет в полумгле лесного дна. Я понимаю наконец, почему человеку хочется быть художником, почему такая страшная тяга и радость — запечатлевать образы мира. В нем живет всегда сладкое и терпковатое, словно вкус терна, воспоминание об утраченном рае жизни. Все, что вьется, стелется, летит и раскачивается на ветру перед его глазами, то отнимется, и он, художник, на тленном холсте тленными красками заранее рисует и то, что он будет вспоминать, и то, как он будет тосковать.
Этот гул морской и единый шелест листвы, набегающие издали, они тоже сей миг мне вспоминаются, и я, благодарный Геле за возвращенное мне море, нахожу вполне естественным, что шум моря и шум зеленого леса, на который надвигается гроза, так похожи. Ведь океан и лес — дети одного отца, и голубой океан намного старше, а тысячелетний лес — зеленый братишка его. Нелюдимый витютень затаился где-то в глубокой чащобе и самолюбиво хрипит: Ви-тютень сидит! Ви-тютень сидит!.. Тут…
Лесной голубь сей, возможно, далекий родственник морской чайки или альбатросов, кто знает. А я, какой стихии я принадлежу: морю, лесу? И кто мой кровный сородич среди рыб, гадов морских, птиц, зверей лесных? Почему я хожу по белому песку океанского берега и по мягким мхам мещерского леса — то молодой парень, то седеющий человек зрелого возраста, то старец с длинными белыми усами, — всегда хожу с терпким чувством непричастности к настоящему мгновению? Оно уходит, как только я хочу узреть его. Где летящая на волне подружка моей юности Геля, с которой я только что встретился у пропитанного солью морского берега?
Жизнь впереди кажется бесконечно длинной, как незнакомая лесная дорога, по которой я шагаю усталыми ногами, со смутным сердцем; а жизнь позади представляется всего лишь одним мгновением, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что оно уже прошло. Я ложусь на мягкий серебристый густой мох, закрываю глаза, лицо мое горит от таинственного жара, который проникает сквозь густую зелень ко мне. Корзина моя полна крупными боровыми грибами. Боль утрат превратилась в спокойное зарево крови, бушующее в моих закрытых глазах, в тонкую паутину, что упала мне на лицо, в глухой крик лесного голубя. И я ощущаю это мгновение как счастье, постигнутое через науку утрат, слышу широкий, неохватный шум волны. Они бросают и раскатывают туго скрученные свитки синих шелковых вод на отлогий берег.
Вот правая сторона неба тяжелеет, темнеет, словно напитываясь сыростью от диковатой, страшных размеров синюшной тучи, что выскочила с ордою мелких приспешников откуда-то из-за леса; левая сторона, все еще сверкающая, прозрачная, как бы отодвигается и уходит в сторону — прочь от исчадий буйства, которым не жаль покоя и дивно устроенной гармонии голубого дня. Между тем глыба тучи наклоняется, валится всей громадой своею, раскаленной изнутри розовым бешеным огнем, и вот влажные хвосты тумана уже хлещут мое лицо. Волны исходят нестройным ревом, несутся лавиною обезумевших стад на берег, словно желая убежать, спрятаться в тайниках высокой земли от ураганного набега, стремительный шум которого близится, гоня перед собою испуганную детвору встрепанных вихрей. Раскатный гул, сотрясавший устои небес, разрешается сплошным, непроглядным ливнем.
Струи дождя столь прямы и неуклонны, что лапы елей не могут противиться упругому натиску воды — она гнет их, хлещет, не давая выпрямиться. Я стою по горло в воде, весь электрический, молниеносный, удар за ударом разящий самого себя жалами горячего огня, и мне неведом страх помятых деревьев, заливаемых косматыми валами набегающего океана. Я стою на пути потопа, мимо меня несутся в пенных валах рыбы, неоглядные туши чудовищ, обломки древних кораблекрушений, сорванные ветви с листвою. Замерев под соснами, уже залитыми до вершин серой водою, я незаметно ухожу из потопного шума в тишину мечты и тоскую лишь о том, что никто не вложит в мою раскрытую ладонь магический апельсиновый Лотос…
Я стоял весь мокрый, и с невероятной быстротою уходило обратно в свои берега море, унося своих рыб, чудищ и покрытые лохмотьями водорослей утонувшие корабли. Как я любил этот шум дождя, скрип сосен, туманный дым вокруг летящих вдали молний, грохот грома, похожий на глухой стук тревожных барабанов, тусклый блеск все еще упругих, но не столь уж непреклонных струй, от которых исходил не угрожающий свист, как раньше, но прозрачный звон. И, приникнув губами к мокрым струям дождя, я тихо воззвал:
— Мать! Отзовись хотя бы раз.
Что мне делать с этой печалью моей? И к чему эта музыка, которою мне не овладеть, как облаками, как полетом во сне? Голоса мужчин, поющих в самой чащобе где-то за Горелым болотом… Хор ангелов и русалок, звучавший из березовых глубин Бардинки. До чего же в лесу хорошо — словно на морских берегах моей сахалинской юности. Лес и море для меня — единый дух, единый шум, неразделимая любовь, братство юности и зрелости, общая блаженная влага, в которой я плыву рядом с рыбами. Я хожу по дну океана, собирая грибы и ягоды. Причудливые деревья и водоросли, меж которыми скачут белки и парят медузы, тянутся ввысь, к далеким небесам зеленой воды, исполосованным летящими солнечными стрелами. Как хорошо человеку в лесу, и в море, и в ковыльных степях, и в горах, и на незнакомых звездах. Как мне хорошо, мать, жить эту жизнь, а тебя в ней нет. Словно взяла ты все самое постыдное, страшное, больное и унесла с собой, а мне оставила одно прекрасное: подводный лес, отражение моря в зеркальном зрачке белой чайки и уносимую облаками твою тень, матерь. Умирая, ты открыла мне, что единственный путь к бессмертию — это жизнь, и я старался, чтобы то, что будет непоправимо — небольшой холст судьбы моей, — вышло бы получше из моих рук… Но кто теперь поправит ту грубую мазню, безобразный подмалевок, который остался после тебя, мать моя? Сможешь ли ты стать птицей, стать ласточкой с красным горлышком и взлететь над холмом снежной могилы?
Мать умерла у тебя, но посмотри, разве я не похожа на нее? Да я такая же, как она. И не говори больше, что МЕНЯ нет. Ты всегда искал МЕНЯ и находил, тебе всю жизнь нравились женщины, похожие на твою мать, и никто из нас не может исчезнуть бесследно. Лес, ты видишь, это МЫ. Воздух — наше дыхание. Слова, что являются сейчас в знаках письма, — это наша спокойная, вразумительная речь. И ты можешь беречь каждую женщину на земле, словно свою мать. Я всегда в той, к которой ощутишь ты нежность. Так что подойди ко мне, оставь свое неистовое горе, отдай мокрую одежду свою, я повешу ее сушить.
И я послушно подошел к ней, дал размотать с себя шарф, снять мокрую одежду. Уже глухой ночью я нашел дом Гели, она встала с постели и в ночной рубашке, накинув сверху пальто, вышла в холодные сени и открыла мне дверь. Она уложила меня в чистую постель, в белый кокон покоя, отделенный от нашего мира снов, внезапно прерываемых смертью. В этой же комнате на диване тихо спала дочь Гели, разметав белокурые локоны по подушке. Я вскоре уснул и проснулся на теплом гребне шелковистой волны, которая несла мое невесомое существо. Я ощутил блаженство, по силе своей равное смертной муке. И, понимая, что беспомощно гибну вслед за утратившей дыхание, бледнеющей на глазах матерью, я прижимал к груди темное, вбирающее всего меня блаженство, и грозная ярость титанов, бунтующих против богов, проснулась во мне. Я погибал в слезах муки, счастья и отчаяния, с восторгом глядя — как бы со стороны — на это яростное борение тех, которым заранее известно, что будут побеждены, с теми, которые всегда надменны и гневны, зная о своем бесконечном превосходстве в неравной борьбе.