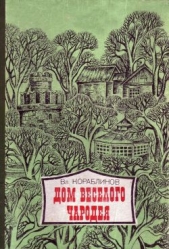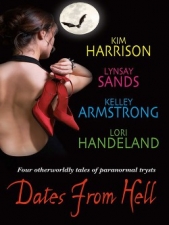Лотос
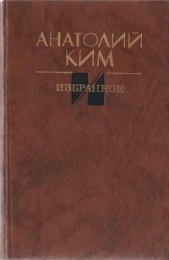
Лотос читать книгу онлайн
«Лотос» — грандиозный экзистенциалистский пассаж, где разыграна тема Большой Смерти, поглощаемой Великой Жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И настала тишина, в которой Лохов слышал лишь стук своего сердца и тихое гудение пламени в печи. Тишина ширилась, пронизывалась каким-то светом, лишала веянием непостижимого жара и раскрылась над ним прозрачным неимоверным сводом, под которым собрались МЫ все, застыв в минутном молчании. Нет, смерть не показалась — ее не было. Сверкающая капелька жизни взмыла ввысь и, ударившись о голубую твердь неба, превратилась в белое облако. Сын испытал загадочное, доселе не испытанное чувство величайшего спокойствия, которое пришло к нему в миг, когда отлетело дыхание матери. Я умерла, не ощутив при этом ничего — как и тогда, когда родилась, — и теперь могла со стороны видеть всю свою жизнь и славить ее в песнопениях нашего Хора. МЫ узнали, что дело, называемое смертью, есть неоспоримое свидетельство того, что твоя жизнь была именно такою, какую ты будешь видеть в своих вечных сновидениях под шум океана, под горькие вопли чаек.
— Отмучилась, родная, — молвил Лохов, полагая, что должен же он при этом что-то сказать…
Стал на колени возле кровати и, нагнувшись, поцеловал гладкий прохладный лоб матери. Затем поднялся и отошел в сторону.
— Ну вот и все, — сказал врач, подойдя к Лохову, и, высоко подняв дуги бровей, пристально посмотрел ему в глаза. — Я от всей души сочувствую вам.
— Да, да, не знаю уж, как бы я пережил все это без вас, доктор, — спокойно отвечал Лохов.
Он не чувствовал сейчас ни скорби, ни боли, ни ужаса, наоборот, какое-то мятущееся воодушевление поднималось в нем. Старик хозяин, приткнувшись возле печки, курил и помешивал кочергою в топке. Раскаленный жар углей окрасил его морщины кровавыми мазками света. Врач стал собираться домой.
— А теперь, — сказал он Лохову, — идите в гостиницу, возьмите номер и выспитесь как следует.
— Нет, до утра еще побуду здесь… А утром воспользуюсь вашим советом. Спасибо за все, доктор.
— Что вы, перестаньте… Меня больше беспокоите вы. Неважный вид у вас, знаете ли. Все же отдохните немного, вам это не помешает. А проснетесь и почувствуете себя плохо, напейтесь как следует. Не стесняйтесь… Вы здесь пока не нужны, старик сам похлопочет насчет всего остального, отдайте только ему деньги.
Когда ушел врач, Лохов сел в одиночестве возле бездыханной матери. Старик лег одетым на свою постель и мирно засопел — никого больше не осталось между Лоховым и матерью. Невидимка смерть сработала наконец то, над чем так усердно трудилась, утомив множество людей, которые ей противоборствовали.
Лохов ожидал, доселе пребывая в ужасе и горе, что когда ЭТО случится, то будет что-то немыслимо страшное, для человеческого сердца невыносимое. Но вот отлетел ее последний вздох и пала тень от полынной былки на сухую, в трещинах, землю, настало раннее степное утро, и ослепительно белый шампиньон, только что выскочивший меж полынных корней, издали бросился в глаза пастушке, когда она в час утреннего вдохновения и одиночества шла на работу, к кошаре. Раздвинув ногою полынные кустики, она увидела густую россыпь грибов, ахнула и присела, собирая их в подол.
Если кто-то когда-то на летней заре радовался нежданной удаче, пусть выглядевшей как белые и суховатые, слегка сморщенные грибы, то в час его смерти МЫ вознесем эту малую радость мощным повтором хора, воспевающим случайное счастье и милость жизни. Она осветилась вся, до последних тайных извилин, как молния в мгновение своей вспышки, и, когда погасла, жизнь стала ясна для нас и проста, как образ молнии. Безмятежно лежала покойница, снова равная и близкая небу, земле, морю, белым снегам. Сын был рядом и молча любовался ею, охваченный высокой скорбью понимания, и МЫ были с ними в эту минуту, и я ощутил ваше присутствие как чуткую тишину, наполненную странным трепетом и жаром таинственной энергии. Мне стало понятно, что смерть — не последняя истина и что намного дальше нее простирается обычная любовь одного человека к другому.
Я видел, как постепенно в течение долгой ночи происходят последние перемены материнского лица, раньше выражавшее что-то от жизни и потому во всех оттенках живой теплоты своей понятное мне, теперь оно с каждым часом становилось равнодушнее и холоднее ко всем прежним чувствам. Иные заботы и ледяные помыслы — непостижимые для меня — отражались на белом покойном лице, искажая его, и мне хотелось поправить смерть своими руками художника — Лохов гладил, тихо плача, ее мягкие волосы, трогал холодное лицо, податливое, словно глина под пальцами. Ему хотелось вернуть матери тот знакомый, любимый им с детства облик, который отныне сохранится лишь в его памяти.
Силою неукротимой печали, всей яростью художника воспротивился Лохов смертному равнодушию матери, и вот вернулась, осталась на ее лице милая, добрая улыбка. Мать закоченела с нею на устах и как живая лежала теперь, осиянная тем внутренним светом, без которого он, родившийся в жестокое время, оказался бы слеп и глух на всякое человеческое добро.
НАМ грустно было смотреть на столь великую скорбь человека, и я коснулась плачущего лица моего сына незримым крылом, навеяла тихий сон на его воспаленные огнем неистовства глаза, и мне стало вдруг тепло, спокойно, я внезапно уснул, припав головою к подушке матери, рядом с ее беззвучной головою.
ГЛАВА 6
Наутро, проснувшись, Лохов не смог сразу вспомнить, где и когда его одолел сон, после которого очнулся он с чувством беды и одиночества. На его глаза попало нечто совершенно непонятное: крестовина окна, пушистый серый иней на стеклах. Сбоку подоконника свисала тряпичная тесемка, концом своим западая в скважину бутылки, подвешенной на веревочке к гвоздю. И вид этого простого сооружения, предназначенного собирать в сосуд натекающую с подоконника воду, показался почему-то столь ужасным для зыбкого, полусонного сознания Лохова, что он вскочил, с грохотом опрокинул стул, метнулся куда-то прочь и, наткнувшись на железную кровать, остановился. Постепенно Лохов стал приходить в себя, разглядел перед собою неподвижное тело старухи, узнал в ней мертвую мать, вместе с тем он как бы в полудреме увидел другое раннее утро, косой луч солнца светился в полумгле комнаты, проникнув сквозь шторы, и рядом с ним на полу лежала тепло дышавшая мать, из уголка ее рта вытекала на подушку прозрачная нить, и он с интересом принялся созерцать эту сверкающую нитку, свитую из густоты утреннего сумрака, теплого материнского духа и обнизанную воздушным бисером. Но пахучая мгла этого прожитого утра и ощущение надежного тепла, дремной силы, спокойствия, доброты матери вдруг преобразовались в нечто другое — стало холодно, запахло давно остывшим дымом, подбородок матери был подвязан бинтами, у печки сидел на полене скуластый, коротко остриженный седой старик, навертывал портянку на ногу. Старик обулся, потопал сапогами и вышел из комнаты.
Теперь, при тусклом свете зимнего утра, едва оживляемом далекими ударами океанских волн, Лохов не мог вернуться к тому состоянию высокой скорби, с которым ночью происходило приятие им смерти, успения его матери. Несомненно, он ПОМНИЛ, как это было, но теперь НЕ ЗНАЛ, что же произошло, а ведь ему казалось, что знание, которое открывалось ему у смертного ложа матери, переиначило всю его жизнь и самого его сделало совершенно другим. Ночная воодушевленность и посмертные страсти над бездыханной матерью представились ему сейчас как зыбкий бред, безумные мистерии, чего нельзя понять. Теперь была перед глазами беспощадная явь: труп с белым лицом, с подвязанной челюстью, в каменной неподвижности которого таилось что-то бесконечно чуждое и враждебное жизни. А ведь ему казалось, что мать застыла с одухотворенной улыбкой на лице, отражавшей свет ее доброго земного бытия. Ничего этого не было, и предстала перед ним личина абсолютной власти смерти, ее жестокая маска. То, что было любящей матерью, превратилось в тяжелую глыбу холода, и только теперь Лохов в полной мере стал понимать окончательность утраты, теперь мать была не та, и не стоило в НЕЙ искать следов прелестной смущенной улыбки, с которою она выходила из моря однажды в жаркий сахалинский день, когда весь берег шевелился, словно розовый муравейник, от нагих людских тел, и мать пришла на море с кем-то из своих подруг, и он ничего не знал и шел по берегу, топча влажную кромку волны; вскрикивали и плескались в воде люди, их было много, пенные гребни волн проносились мимо купальщиков. Они подпрыгивали перед набегающей волной, сверкая плечами, иные выходили из воды, другие с криком бросались в падающую волну; и вдруг среди множества этих счастливых людей Лохов увидел свою мать, она окунулась в воду по шею, встала, и пошла к берегу, и увидела его, и улыбнулась ему, КАК ЧУЖАЯ, как просто знакомая ему дружелюбная женщина, которая купается в свое удовольствие и несколько смущена тем, что вот она, пожилая и тучная баба, разделась и влезла в море — без нарядного купальника, в том же будничном белье, что носит обычно под платьем… Сын тогда отвернулся и быстро пробежал мимо, ждали его веселые всякие дела, но, убегая, он уносил в памяти ее взгляд, ее беспомощный и счастливый вид, ее смиренное безразличие к себе самой и грустное одиночество ее веселья среди радостного гомона лежбища купальщиков. И навсегда ранило его сердце то счастливое, никогда не виданное им на лице матери блаженно-кроткое выражение — девичьей шалой радости от невинных игр с морскими волнами. Тогда и понял он впервые, что мать его чистый человек, хорошая женщина, но несчастна и погибла, погибла…