Новый Мир ( № 4 2007)
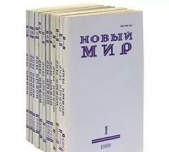
Новый Мир ( № 4 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В середине девяностых кладбище, к тому времени обросшее гражданскими могилами, было благоустроено немцами. Теперь среди жмущихся друг к другу могильных памятников зеленеет газон, на котором аккуратными рядами стоят невысокие белые каменные кресты. Обычное такое военное кладбище: скромное, аккуратное, но совершенно нездешнее.
Раз в несколько лет сюда привозят немецкого канцлера, он кладет скромный веночек, стоит минут пять молча и уезжает. Ситуация неловкая: громких речей не скажешь — понятно же, кто кому на этой земле кем приходится. Можно только поблагодарить сотрудников кладбища за внимательность к могилам да произнести пару-тройку ритуальных фраз про уроки и про то, чтобы не повторилось.
За оградку зевак не пускают, но любопытствующие приходят к мемориалу, созерцают белые кресты.
— Вот и березка тут, и кустики, а листочков на земле не видно. А у нас в Костюшках буквы отодрали все, уж и памятник скоро растащат…
— Да ладно, мам, это ж немцы, они за своими следят…
За нашими тоже следят. По идее, за могилами Героев Советского Союза, их на кладбище около десяти, должны присматривать специальные государственные люди. По крайней мере доподлинно известно, что госпрограмма обихаживания этих могил существует. Но тем горше истории частные: год, что ли, назад именно на этом кладбище вдова одного из Героев продала надгробную плиту мужа. Плиту сняли и увезли в неизвестном направлении.
В надгробиях прослеживается даже некоторая мода, по крайней мере среди жертв автомобильных катастроф. На плитах гравируют портрет погибшего и машину. Причем совершенно непонятно, в каком качестве присутствует автомобиль — любимой игрушки, средства транспортировки на тот свет, свидетельства благополучия? Особенно запомнился памятник: два портрета, молодые лица, разные фамилии и бумер — один на двоих.
Оживает кладбище, как и положено, раз в году, на Пасху. Вдоль всего пути от метро до кладбищенской ограды выстраивается вереница теток с еловыми веночками, искусственными цветами, просто цветами, незамысловатыми вазочками, ленточками и прочей могильной мелочью. Улица наполняется народом. Все пестро, радостно, и люди, идущие к своим покойникам, встречаются, целуются, разговаривают друг с другом…
И в этой уличной толпе ясно понимаешь, как будет выглядеть Воскресение.
Начало
Проснулась от ощущения, будто тупая игла, пробив темечко, долго вкручивается между дольками головного мозга. Заунывный, неприятный звук... Потом он стал обретать обертоны человеческого голоса:
— Аллаааауо акбар... Аллаааауо акбар... Аллаааауо акбар...
Заснуть не получилось. По моим представлениям, было около шести утра. Мысленно начала искать источник звука. В нашем доме... чуть выше... в соседнем подъезде...
В соседнем подъезде живут азербайджанцы. Кричали с балкона.
Сначала думала, что скоро перестанут, но тоскливый голос все выл и выл:
— Аллаааауо акбар... Аллаааауо акбар... Аллаааауо акбар...
Встала, пометалась по комнате, поставила чайник, отсчитала положенные три ложки растворимого кофе, плеснула кипятка... Не проходит, не замолкает проклятый голос. Блин, ну неужели его никто не заткнет! Тоже мне... мечеть! Сколько здесь живу, первый раз такое.
В раздражении, почти ярости отдергиваю штору.
В пятиэтажке напротив освещены почти все окна. У окон стоят люди: на втором этаже, слева от первого подъезда, замер алкоголик — зачинщик большинства местных пьяных драк, застыл в какой-то корявой, вывернутой позе. Третий этаж третьего подъезда — мусульманка в платочке, прижимает к себе маленького ребенка, а рядом стоит подросток. В окне первого этажа старики передают друг другу очки. Четвертый этаж второго подъезда — над подоконником едва-едва видны два детских затылка. Во всех окнах люди, много людей, и все они не отрываясь, сосредоточенно смотрят в одну и ту же точку — балкон третьего этажа моего дома. Там, раскачиваясь из стороны в сторону, стоит тоненький, лет семнадцати, самозваный муэдзин и все кричит и кричит:
— Аллаааауо акбар... Аллаааауо акбар... Аллааааауо акбар...
И голос этот тонет в той особой тишине, которая бывает перед снегопадом, и на землю начинают падать редкие, чистые, новорожденные снежинки.
Так мое серенькое, хилое, замурзанное Люблино узнало о начале войны в Ираке.
Бабушки
Еще совсем недавно в Люблине был совхоз. Настоящий. За здоровенным бетонным забором по Краснодарской улице теснились стеклянные купола теплиц. Что там выращивали — бог весть, скорее всего, какую-нибудь петрушку-сельдерюшку. Потом, видимо, решили, что трава в черте города — штука нерентабельная, совхоз закрыли и на его месте начали возводить красивые марьинские многоэтажки. То есть до того момента, пока на той стороне Краснодарской был совхоз имени Горького, это было Люблино, а как только построили дома, раз — и Марьино.
Но Люблино — место памятливое, тут ничто не исчезает бесследно. Память о совхозе сохранилась в названии Совхозной улицы, где в доме номер восемнадцать живут бабушки. Когда-то давно, когда в Советском Союзе существовала госпрограмма по стиранию границы между городом и деревней, совхозниц заселили в панельную девятиэтажку, с тех пор и обитают там, сохраняя привычный сельский уклад жизни.
— Женщина, вы к кому? Нет, вы скажите, к кому, а то вдруг их дома нет…
У моих друзей, живущих в этом доме, не работает домофон, поэтому, когда подхожу к подъезду, звоню, чтобы Юля спустилась вниз и открыла. Приходится какое-то время ждать и общаться с бабушками.
Бабушки не меняются: в старых вязаных кофтах, платках. По платкам, как по приметам, можно предсказывать погоду: завязаны под подбородком — к прохладе, за затылком — к теплу и солнцу.
Они все так же называют друг друга по отчеству и номеру квартиры, минуя имя. Все так же с наслаждением перебирают диагнозы и назначения врачей. Все так же самозабвенно, скрупулезно и обстоятельно вспоминают обиды и поучения свекровей. Уже, как правило, и мужей-то нет в живых, ан нет, каждый скандал из-за немытых полов, неприбранной прически, пересоленного супа, недостаточного почтительного слова жив в памяти.
Во дворе дома много скамеек. Когда не хватает — выносят стулья и табуретки. Стулья — венские, табуретки — четырехногие, с уже щербатым пластиковым покрытием.
Кроме разговоров есть еще домино и “дурачок”, с громкими криками “бито!” и “рыба!”. С обязательными комментариями, если вдруг какой мужичок рядом присел: “Ох, Петровна, смотри, как прижимает, ох, не зря… У тебя там еще ворочается что? А то и свадьбу сыграем…”
Свадьба не свадьба, но празднуют они все, без исключения, праздники широко, жирно, совхозом: со столом во дворе, с водкой-селедкой, салатом оливье в алюминиевых кастрюлях, с колбаской, пирогами, картошкой, квашеной капустой и малосольными огурцами. А потом, после пятой, откуда-то возникает баян. Я ни разу не видела его у кого-то в руках, но точно слышала звук — надтреснутый и хрипатый. И тогда на три квартала разносится “Ой, мороз, мороз…”. Бабушки поют стройно, от живота, с тоской по умершим мужьям, по живущим где-то детям-внукам, по утраченной жизни, которая им обещала стирание границ, а вынесла к подъезду панельной девятиэтажки. Да, с теплым сортиром и горячей водой, но с крохотной пенсией, с болями в спине от тяжелой работы, с вежливыми улыбками новых жильцов, которые смотрят на бабушек как на динозавров и не желают знать, куда и с кем ушла жена…
Когда-нибудь, довольно, к сожалению, скоро, когда гроб последней совхозницы пронесут мимо подъездов восемнадцатого дома, грань между городом и деревней в Люблине окончательно сотрется. Дымкой в памяти останутся песни под окном, исчезнут застолья, пересуды. У нас никогда уже не будет этих бабушек…

























