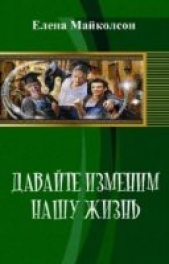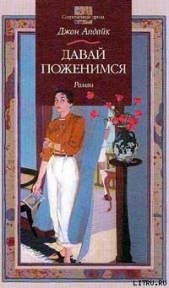Матисс

Матисс читать книгу онлайн
«Матисс» – роман, написанный на материале современной жизни (развороченный быт перестроечной и постперестроечной Москвы, подмосковных городов и поселков, а также – Кавказ, Каспий, Средняя Полоса России и т. д.) с широким охватом человеческих типов и жизненных ситуаций (бомжи, аспиранты, бизнесмены, ученые, проститутки; жители дагестанского села и слепые, работающие в сборочном цехе на телевизионном заводе города Александров; интеллектуалы и впадающие в «кретинизм» бродяги), ну а в качестве главных героев, образы которых выстраивают повествование, – два бомжа и ученый-математик.
Александр Илличевский – лауреат премии имени Юрия Казакова (2005); финалист Национальной литературной премии «Большая Книга» (2006; 2007); финалист Бунинской премии 2006 года (серебряная медаль), лауреат премии «Русский Букер» 2007 года за роман «Матисс».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А самой беспросветной была его работа страховым агентом. Он обошел всю Москву, предлагая организациям подписку на страховочные сертификаты. От него требовалось нацелиться на производственные помещения. Никто не хотел страховаться, всем было наплевать: будущего не существовало. Зато где только он не побывал. Москва оказалась полна неведомых промзон, грузовых терминалов, складов, товарных станций, машиностроительных заводов, – казалось, не было в ней места жизни. «В центре Кремль расползается пустотой, разъедая жизнь; окраины полнятся лакунами пустырей, заставленных металлоломом производства; где осесть жизни?» – думал Королев, обходя разливанные апрельские лужи, пробираясь страшными задворками завода Михельсона. Это был пустой и бестолковый, огромный завод – с дремучими корпусами, в которых скрипучие двери вертелись на блоках, приоткрывая пошедший винтом, захламленный коридор, прокуренную мастерскую, заставленную до потолка стеллажами, вздетыми на попа станками, стойками с электромоторами, испытательными стендами, верстачком, за которым едва было можно разглядеть пучеглазого мастера в сильных очках и выцветшем халате, с тремя прядями, протянутыми через трудовой череп, – с беломориной в зубах и паяльником в руке; на стене висела воронка пожарного ведра, полная окурков, и календарь 1982 года с пляжной японкой.
– Здравствуйте! Застраховаться не хотите? От пожара, от смерти?
Дрогнули, поплыли захватанные стекла очков. Мастер испугался, не ответил. Королев не очень-то и хотел, чтобы тот отвечал. Он с удовольствием вдохнул горячий запах канифоли.
– Извините. Не подскажете, где на территории произошло покушение на Ленина?
Мастер поднял глаза от пайки:
– Где памятник – видел? Там, – и он махнул паяльником в сторону стены.
Королев долго еще бродил по заводу, оглядывая, заходя в дырявые, выпотрошенные ангары, на ветру звенящие, оживающие в верхотуре висячими частями, – обходя всякую не опознаваемую рухлядь, вертикальные цистерны с красными черепушками и костями, пока не вышел к парадной площадке, с обелиском и доской почета. Здесь он, воздев руку над огнем зажигалки, поклялся себе больше никогда не быть страховым агентом.
Все трудоустройства Королева были так или иначе обусловлены его студенческими знакомствами. Где он только не работал. Самое бешенное время с ним приключилось, когда, поддавшись уговорам институтского приятеля, он переехал в Питер.
Рустам был родом из Оренбуржья. Его опекала младшая сестра, вышедшая замуж за нувориша. Королев жил с другом в полуподвале на Большой Конюшенной, где мечтали устроить репетиторский класс, сезонно готовить школьников к поступлению в вузы, а полгода посвящать путешествиям: на Алтай, в Монголию, мечтали проделать путь Стеньки Разина – с Нижней Волги в Персию… Для этого сначала неделю заливали бетоном земляные полы, обдирали, прочитывая, со стен газеты 1889 года, затем пилили и строгали стеллажи, столы, топчаны, плели из проволоки ограждение перед окнами, чтобы забредшие в подворотную глухомань люди не мочились им под форточку. Июньской белой ночью выходили на улицу. Их двор был одним из многочисленных дворов-матрешек в округе. В проходе к Дворцовой площади худенькая девушка играла на гитаре Баха… Затем лето, питерское лето понеслось глупым счастьем. Питер предстал перед Королевым совершенно потусторонним прекрасным миром. До обеда они готовили школьников в вузы, в пух и прах разрешивая сборники вступительных задач, а после мчались в Петергоф, Царское Село, Гатчину. Королев мог часами бродить по Царскосельскому парку, заглядываясь на галерею Камерона. Ему вообще нравилось все, что напоминало портик: он обожал одновременность покрова и открытости всему ландшафту. Даже новые бензозаправки вдохновляли его на античные ассоциации. Родись он в Питере, думал Королев, этот город совсем по-другому бы его слепил, выпестовал – одним только пространством…
А потом началась промозглая осень – посыпались искрометные знакомства с китайцами-ушуистами, поклонниками стиля шаолинь-цюань: один из них вытекал из смирительной рубашки, а у другого было удивительное рукопожатие – ладонь его выливалась из руки, как подсолнечное масло. От китайцев они перешли к кружку самураев, – то по ночам ковавших мечи в металлопрокатном цеху Путиловского завода, то под дождем рубивших бурьян вокруг дворцовых развалин в Стрельне; а от них к гейше-любительнице, учившей Королева сочинять растительные стихи – икебана. Гейшу звали Татьяна-сан, была она средних лет и при всей непривлекательной нескладности источала такой тонкий аромат, что Королев в ее обществе терялся, задыхаясь от неясного жара, вдруг раскрывавшегося пылающим сухоцветом в солнечном сплетенье. Потом была девушка Оксана, год назад спасшаяся от рака йогой, голоданием. Королев гулял с ней вдоль каналов, следил, как фасады перетекают в дрожащие зигзаги кильватерной ряби, разбегавшейся от прогулочных баркасов, вникал в подробности ее титанической борьбы за жизнь. Оксана любила шить, он приходил к ней послушать стрекот челнока, последить, как ловко, будто печатью, ложатся на шов стежки. Содрогаясь от легкости, он брал ее на руки, нес на диван, тушил бра, и она жалась, стесняясь телесной своей ничтожности, а Королев наполнялся жестокой, любопытной жалостью, с какой он снимал с нее кофточку, пузырящиеся брюки, выпрастывал спичечное тело, вдруг начинавшее биться, складываясь в его ладонях со стыдливой, прерывистой горячностью, и все смотрел на ниоткуда взявшийся скелетик, словно бы недоумевая, и вдруг, как внезапные слезы, пробивало его неистовство, он словно бы попирал саму смерть, зверея над ней, над этой худышкой…
Потом были унылые девки с улицы Жени Егоровой, как на школьной линейке, гулявшие вдоль обочины: осовелые, бесчувственные, желающие только срубить на дозу. Везли их на такси через весь город, и наконец Королеву опостылело: однажды он весь сеанс просидел с такой подружкой в кухне, в то время как вторую в спальне Рустам гонял ремнем за нерадивость.
«Не убьет?» – спрашивала у Королева девочка, откусывая пирожное.
А потом они с Рустамом уехали в Оренбург закупаться пуховыми платками, войлоком и валенками – для открытия торговли на базаре. Но прежде заехали в деревню Рустама. От станции тряслись на телеге, упряженной мохнатым тяжеловозом, оглядывавшимся на Королева, как на знакомого. Возница тоже оглядывался – ревниво – и понукал, подстегивал Гришку, – так звали дряхлого, засыпавшего на ходу мерина.
Затем они окунулись в простой и важный мир, в котором жили дымящиеся стога запорошенного снегом сена, коровы, овцы, хлопотливые гуси, лошади – и ноябрьский буран в степи, разверзшийся из тучки-кулачка – как из раскрытой в очи жмени – ураганом колючих хлестких бесов. Теплая широкая печь, по которой так приятно было кататься поверх стеганого одеяла, сытная пища, дневной сон, тишина. Такая тишина, что закладывало уши – и специально самому себе приходилось подать голос: кашлянуть или мыкнуть, – чтоб очнуться слухом. В этой татарской патриархальной деревне жители редко говорили по-русски. Но если говорили, язык их звучал необычайно чисто, парадно.
Вскоре Королев порожняком вернулся один в Москву: родители оставили Рустама, чтобы женить.
По большей части потому Королев не мог жить, что не способен был наслаждаться простыми сущностями. Он и сложной и радостной жизнью наслаждался не вполне, поскольку всегда принимал изобилие за предвестие недостачи.
Не любя себя, он не то, чтобы не роскошествовал терпеть других, но чувства его всякий раз оказывались опосредованы: ревнивое тело одиночества всегда вмешивалось третьей частью в его связи с человеком. С женщинами его отношения строились по принципу карточного домика. Из-под их руин выбираться было просто, но такая тоска охватывала Королева снаружи, так ему было там просторно, будто отплыл он без привязи от космической станции. Постепенно он перестал испытывать себя и перевел эту часть жизни в область практическую. Но и в такой конструкции темперамент Королева проделал брешь, размером превосходящую бытие. И вот уже год Королев жил один. И даже думать о женщинах себе запретил…