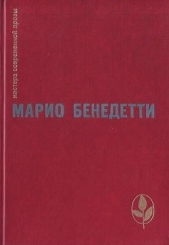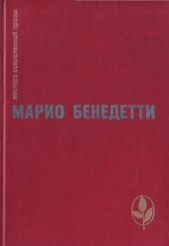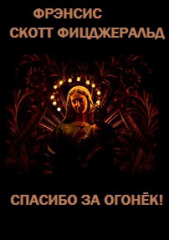Спасибо за огонек
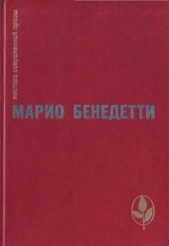
Спасибо за огонек читать книгу онлайн
Проза крупнейшего уругвайского писателя уже не раз издавалась в нашей стране. В том "Избранного" входят три романа: "Спасибо за огонек", "Передышка", "Весна с отколотым углом" (два последних переводятся на русский язык впервые) — и рассказы.
Творчество Марио Бенедетти отличают глубокий реализм, острая социально-нравственная проблематика и оригинальная манера построения сюжета, позволяющая полнее раскрывать внутренний мир его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— С Ларральде? Неужели это возможно?
— Ну кто, по-твоему, этот смельчак? У него тоже есть свое слабое место, как у всякого рядового человека.
— Что он натворил?
— Он? Пока я ничего не знаю. Насколько мне известно, ничего.
— Ну, и дальше что?
— Дальше? А вот послушай. У него есть старший брат, Орасио Ларральде — имя тебе знакомо? — который на последних выборах фигурировал в качестве семнадцатого кандидата в депутаты в списке компартии. Есть у него дядя по матери, Хасинто Франко — имя тебе знакомо? — который в 1948 году был кассиром в почтенном банковском учреждении и в какой-то уикенд сел на самолет, вылетавший в Париж, с пятьюдесятью тысячами долларов, зашитыми в подкладку пальто, однако Интерпол сумел эту подкладку отпороть. И наконец — самое важное я оставил тебе на закуску, — его сестрица, Норма Ларральде — имя тебе знакомо? — Нормита для близких друзей; она ни мало ни много возлюбленная номер один достопочтенного сенатора Эстевеса, человека женатого, имеющего четверых детей, батльиста, eppur [110] католика, хотя тебе это покажется противоречивым. Что скажешь?
— Я понимаю, что вы способны пустить в ход весь арсенал этих сведений, однако ни один из приведенных фактов не может быть вменен в вину самому Ларральде.
— А зачем мне обвинять самого Ларральде, если у меня есть три таких великолепных, достоверных, впечатляющих факта? Зачем мне исследовать его личную карьеру, если я могу начать кампанию против его брата, требуя отстранить его от должности в «Совете Ребенка» [111] под предлогом, что своей тайной проповедью марксизма-ленинизма он превращает несчастных, увечных подростков в угрозу для общества и демократических установлений? Зачем мне трудиться, если одним упоминанием о подвиге, совершенном его дядей кассиром в тысяча девятьсот сорок восьмом году, я автоматически лишаю веса и ценности его предполагаемое разоблачение того, что он в наивной своей дерзости, возможно, назовет моими «грязными махинациями»? Зачем, если я могу послать влиятельной сеньоре Эстевес анонимку с указанием улицы и номера квартиры, которую сенатор снял для Нормиты, и вдобавок передать эти сведения в «Ла Эскоба» — ты ведь не потребуешь, чтобы наша серьезная, правдивая, объективная газета повторяла подобные сведения, возможно клеветнические?
— Неужели вы на это способны?
— Of course [112], сынок. Не забудь, у меня есть Хавьер, а Хавьер тщательно пополняет мою богатейшую картотеку отечественных знаменитостей, то, что мы с ним называем Перечень Бесславных Поступков Славных Личностей. Ты не представляешь себе, сколько от него пользы, особенно в случаях, подобных тому, о котором я говорил. У меня еще и то преимущество, что в этой стране я единственный столь предусмотрительный человек, чтобы интересоваться уязвимыми местами сограждан, и до сих пор никто еще не сделал того же по отношению к моей особе. С другой стороны, найдись человек, способный на это, знай, что моим правилом было не оставлять никаких следов, не подписывать даже самой пустяковой бумажки, не договариваться при свидетелях, когда речь идет о делах не вполне безупречных. Следы, подписи, свидетельства — это я оставляю для того, что законно, записано, осязаемо. Но там, где есть хоть тень недозволенного, я предпочитаю слово. Verba non res [113], я, как видишь, латынь еще не позабыл. Например, все то, что я тебе говорю, я бы никогда не подписал и не сказал бы при свидетелях, даже при этом чуде преданности, которое зовется Хавьер. Если в минуту безумия ты бы вздумал использовать против меня нынешние мои слова, заметь, что у тебя не было бы ни единого свидетеля. А кто тебе поверит, тебе, который без меня ничто, если ты станешь оспаривать слова доктора Эдмундо Будиньо, который — согласно умной и чуть язвительной статье, в прошлом месяце напечатанной в журнале «Тайм», о нашей маленькой стране представительной демократии, сопернице Швейцарии, — фигурирует в числе пяти наиболее ярких личностей на уругвайском политическом горизонте? Честно говоря, тот факт, что включили еще четверых, объясняется лишь обычной плохой осведомленностью североамериканских журналистов. Но, конечно, ты не сделаешь этого, не настолько ты глуп. Я просто привожу как пример. Завтра же Ларральде позвонит аноним — разумеется, Хавьер — и поставит его в известность о том, что ему, Хавьеру, известно, иначе говоря, ознакомит в общих чертах с имеющимися у меня данными о его плане.
— А если, несмотря ни на что, Ларральде откажется молчать?
— Ты не знаешь людей, Рамон. Потому-то ты всегда так озабочен. Ларральде журналист толковый, деятельный, предприимчивый, с чутьем, но в основе своей это человек, который хочет жить спокойно и знает лучше, чем кто-либо, что, если мне известны грешки его родни и он при этом накинется на меня, тут уж спокойная его жизнь кончится, не только потому, что я пущу в ход все меры, о которых тебе рассказал, но и по более серьезной причине: хотя моя газета довольно близка к правительству, а он пишет в газету оппозиции, но в конечном счете каждая из двух наших главных партий знает, что нуждается в другой, так что вполне может случиться, что через несколько недель Ларральде окажется без работы. А что, по-твоему, сможет сделать Ларральде, после того как две влиятельные газеты объявят о его кончине как журналиста? Он не дурак, повторяю тебе. Он сразу поймет. Точно гак же, как минуту тому назад понял ты, когда я тебе несколькими штрихами обрисовал моральные истоки твоего пресловутого агентства. Ты ведь сразу понял, что не сможешь со мной тягаться. Во-первых, потому что ты, в конце концов, мой сын, а кровь есть кровь. И второе: если тебя вдруг одолеет зуд благородства и ты со мной порвешь, и оставишь агентство, и выкинешь все за борт, и решишь избавиться от всего, что так или иначе порождено моими гнусными деньгами, ты прекрасно знаешь, что это было бы для тебя пострашнее, чем экономический крах. Это было бы также крахом семьи — честно говоря, я не представляю себе, чтобы Сусанна могла начать с нуля, стряпать, стирать, пойти самой на службу, и также не представляю себе, чтобы Густаво, несмотря на свои прогрессивные замашки, оставил учебу и пошел работать. Ты сразу это понял, что говорит в твою пользу — ведь, сделав благородный жест, то есть порвав со мной, ты бы остался ipso facto [114] без агентства, без жены и без сына. И также без любовницы, если таковая у тебя имеется, — увы, они-то менее всего наделены сантиментами. Я не знаю, есть ли она у тебя, но не думай, что тут недосмотр Хавьера. Нет, просто ты недостаточно важная персона, чтобы фигурировать в моей картотеке. Ну, на сем я тебя покидаю, твои десять минут превратились в полчаса, и меня уже минут пятнадцать ждут в Партийном Клубе. Привет Густаво и Сусанне. Возможно, завтра я к вам загляну.
Как странно. И все же эти ужасные вещи, которые он говорит мне, он не скажет никому другому. Возможно, это доказывает одновременно два факта. Первый — что он никого так не ненавидит, как меня. Но также — что никому не доверяет настолько, чтобы все это говорить. А в этом его сущность. В этом отталкивающем автопортрете, который он мне преподносит когда только может, всякий раз добавляя какой-нибудь новый штрих. В этом его сущность, а не в пламенных, ядовитых, беспощадных редакционных статьях, столь же бесчестных, сколь бесчувственных. В этом его сущность, а не в похлопыванье по плечу, не в финалах речей, когда он раскрывает объятья и с нечестивым умилением возводит очи горе, не в уверенном тоне, которым он выкрикивает свои немногие сомнения, не в корректном презрении, с каким он говорит обо мне своим приятелям, не в его лживой скорби при всяческих катастрофах, не в его жестоких и увлажненных глазах при виде рождественских елок. В этом его сущность, а не в его фотографиях с официальной улыбкой, не в его библиотеке в пять тысяч томов, большей частью не оскверненных ножом для разрезания книг, не в сокрушенном его лице, когда он говорит о Маме, и не в щедрости, с какой он посылает, но никогда не приносит сам, охапки цветов на ее могилу в каждую годовщину ее смерти. Об агентстве он мог мне говорить вполне спокойно. Он был уверен, что я ничего не сделаю. Но в самом деле, неужели я не могу ничего сделать? У него просто фантастическая интуиция в умении наметить психологические координаты и вычислить, что если он подтолкнет события в определенном направлении и они належатся на некий, также определенный характер, то реакция будет такой-то и такой-то. И самое ужасное, парализующее мою волю — это то, что обычно он прав. Он знает, что если подтолкнет меня к тому, чтобы я выкинул все за борт, то, когда это мое решение наложится на характер Сусанны, она меня бросит, уйдет бог весть куда, вероятно к своим родителям, или разведется, все что угодно, только со мной не останется. Ошибся он, возможно, только насчет Густаво, а может, и не ошибся. Но Густаво от него слишком далек по возрасту и потому не вполне поддается его расчетам. Старик исходит из того, что думал и во что верил он, когда был в возрасте Густаво, но этого недостаточно. Ведь мир изменился, и семнадцать лет Густаво — это не мои далекие семнадцать лет и тем паче не сверхдалекие семнадцать лет Старика. Пожалуй, во всех предвидениях Старика это единственный просчет. Да, Густаво, возможно, меня не оставил бы, но уверенности нет. Ни в чем нет уверенности. Сусанна — та оставит. Ну и что? Разве меня так уж волнует, оставит меня Сусанна или не оставит? Страсть кончилась, причем кончилась так, что я теперь и не знаю, была ли она, но моя память, не тело мое, а память говорит, что была. Допустим. Что ж до любви, так любовь без страсти — понятие настолько абстрактное и общее, что, возможно, она еще существует, еще связывает нас, но большой роли не играет. Я к Сусанне привык, привык к порядку, в каком она содержит дом, к ее холодному тону в разговоре, к ее слегка истерической реакции в трудные минуты, к ее спокойному лицу во сне, к ее чуть металлическому смеху, к ее коже, к ее шепоту, к ее депрессиям, к ее дерзостям, к ее ягодицам. Но привычка-не необходимость. Прежде она была мне нужна, теперь нет. Так что же связывает нас? Страсти уже нет, лишь вялая любовь; необходимости уже нет, лишь привычка. Каким одним словом можно все это выразить? Нежность? Уважение? Внимание? Симпатия? Равнодушие? Скука? Тоска? Бешенство? По существу, я живу спустя рукава. Ну ладно, не будем слишком усердно копаться. Даже в самом себе. Самый близорукий человек мог бы заметить, что счастьем это не назовешь. Громкие слова. Счастьем мог быть тот вечер в Портесуэло со свежей, радостной Росарио, но я не обольщаюсь мыслью, что оно могло длиться. Тот вечер хорош там, вдали. Да, я тоже сделал вложение своего первого капитальца, и он еще и теперь приносит мне дивиденды. Счастьем, пожалуй, могла быть жизнь с Долли. Но если бы она не была замужем за моим братом. И если бы я не остывал душою так быстро. И если бы она меня любила по-настоящему, а в атом я никогда не буду уверен. Знаю, она ко мне питает нежность, ну и что, очень хорошо, когда свойственники питают нежность друг к другу, это разрешено Верой и Заповедями. Но меня бесит, что я ее деверь. Давай подумаем: а если бы Долли была моей женой и я бы выкинул все за борт, оставила бы она меня? Хочется ответить, что нет. Долли меня бы не оставила. Долли — славная женщина, понимающая, она бы не роптала, если бы пришлось начинать с нуля, трудиться как вол, расстаться с завивками и маникюром, продать свой палантин из дикой нутрии и купить клетчатый жакетик, не гнуться, и она не гнулась бы, хотя бы судьба и я осыпали ее невзгодами. Долли меня бы не оставила, будь она моей женой. Но она не моя жена. Вот открытие, К тому же я не очень уверен, что Сусанна меня оставит. Не очень уверен, главным образом потому, что не очень уверен, что выкину все за борт. Уточним, однако, держаться ли мне за агентство после коварного выпада, после злобного намека, брошенного мне Стариком? Держаться ли мне за агентство, всеми четырьмя ногами стоящее на восьмидесяти тысячах песо, ссуженных несколько лет назад доктором Эдмундо Будиньо? Держаться ли мне за агентство, хотя эти восемьдесят тысяч песо нечто вроде фрикадельки, основным ингредиентом которой было бесчестье? Но Старик уже сказал без обиняков: даже если я закрою агентство и верну ему деньги полностью, все равно тем, чем я являюсь в экономическом, социальном и семейном плане, я буду обязан исключительно созданным им для меня возможностям. Стало быть, если, закрыв агентство, я ничего не добьюсь, я его не закрою. Выхода нет. Единственным выходом, возможно, было бы убить Старика, но такого не бывает в нашей маленькой стране, в нашем, по определению «Тайм», Swisslike [115] Уругвае. Для этого надо быть новатором, пионером, то есть Другим. Как изящно выразился Старик, «в конце концов», я его сын. А сыновья обычно не убивают отцов. У нас практикуется лишь юмористическое отцеубийство, Беспокойному кинокритику Хуану Диего Бенитесу задали в телепередаче забавный вопрос: если бы вы были сыном Эдмундо Будиньо, кем бы вы хотели быть? Сиротой, ответил Бенитес. Славный парень, отличный удар, такую остроту не грех пересказывать в кафе. Даже Старик смеялся. Конечно, можно было бы у Бенитеса спросить: если у вас такие разрушительные наклонности, почему вы его не убьете тем или иным способом? Ха-ха! Это невозможно, правда ведь?