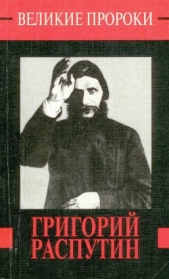Бог X.

Бог X. читать книгу онлайн
«О любви написано столько глупости, что скорее всего о ней вообще ничего не написано» — пишет Виктор Ерофеев в своей книге, стремясь заново постичь природу любви, описать рождение, блаженство, муки и смерть любви, рай и ад любовных отношений. Он видит современный мир как фабрику любви, на которой изготавливается коварный наркотик счастья. Книга дерзкая, по-ерофеевски яркая и беспощадная. Для миллионов заложников любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Роковая женщина
Все кажутся наполненными очень мелкой энергией, почти мертвецы, я от них шарахаюсь, и отвлекают от случайности только мысли о славе и громкая музыка. Думаешь: почему мысли о славе отвлекают от случайности? Разве тщеславие — такая мощная печка, что справляется даже с любовью? А почему — рок-музыка? Конечно, лучше всего залезть под крышу Бога и несколько уценить любовь, но это тоже поначалу кажется очень случайным решением. И даже родные становятся случайными людьми, и это, конечно, пугает, но однажды, встретив того неслучайного человека, из-за которого все стало случайным, вдруг видишь, что и она — уже тоже случайность, и ноет ампутированная нога ветерана, и думаешь: полюбил курам на смех что-то такое невзрачное, как одна моя знакомая сказала: из нероковой женщины сделал себе роковую. Ну, тогда значит, уже полегчало.
Пасхальная неделя
Странные мысли приходят иногда в голову: кто все-таки прав в том далеком споре, Белинский или Гоголь? В письме Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский утверждал, что русский народ по сути своей безрелигиозный, полон лишь предрассудков и слишком непочтительно думает о попах, а Гоголь в своем ответе, впрочем, никогда не отправленном, поражался слепоте Белинского и его нежеланию увидеть нашу с вами глубокую религиозность.
В пасхальную ночь я зашел в случайную для себя церковь возле Покровского бульвара, какую-то необычную, миражную, что ли: внизу трапезная, ярко освещенная и много на столах куличей; ходили в большом количестве принаряженные дети и подростки, шушукались быстроногие девчонки с молочными щеками, а на втором этаже шла праздничная служба, и так пели красиво, что я сразу подумал: надо бы чаще заходить, а то суета, времени нет, а тут все сразу куда-то отодвигается, и понимаешь, сколько в тебе наносного, даже не вслушиваясь в слова, а по состоянию, колебанию воздуха, и такой начинается, как говорится, «приход», что чувствуешь кожей эту самую невостребованную религиозность, которую так неистово отрицал Виссарион. Я вышел довольно скоро, куда-то торопился, и долго еще ходил под дождем, был теплый весенний дождь, с этим ощущением: надо бы как-то иначе жить.
Но не получается.
В жизни здешней, сегодняшней завязываются совершенно другие связи. Потому что все свои силы отдаешь разборкам с близкими и далекими людьми или с их функциями, все стараешься выяснить сложные отношения, и хотя понимаешь, что никогда с этим не разберешься, все разбираешься и разбираешься. На следующий вечер, например, я выяснял с отцом вопрос свободы слова в России. Разговоры о вечном откладываются на потом, и смешон Гоголь со своими моральными наставлениями, если здесь никто не может жить по морали, иначе тебя самого смерть попрет.
А в пасхальный понедельник мне случайно попадается ученый японец, который мне говорит, что они, японцы — нерелигиозные люди, на радость Белинскому, но при этом у них все получается. У них все держится на вкусовых ощущениях: невкусно врать и невкусно, когда в доме у тебя грязь. Как их к этому приучили без веры в Страшный суд, если у нас и Страшным судом, и налоговой полицией пугают, а все равно вкус к правильной жизни не вырабатывается?
Выходит, правы оба литератора. Мы безрелигиозны — поэтому не думаем о вечном, но мы же и религиозны — а потому не думаем, как создать нормальную цивилизацию. То есть, все хорошо, мы все в себе, как никто другой, совмещаем, но в любом случае мы не думаем.
А сверху тебе опять говорят: не японец ты, чтобы жить по-другому.
Песня
Вот так, выпив энное количество рюмок, переглянувшись, но не сговариваясь, посреди недоеденных салатов и разводов на белой скатерти, люди вдруг начинают петь. В разное время жизни я смотрел на это странное занятие совершенно по-разному. То как на абсурд, то с допустимой для современного человека степенью умиления, то с легким презрением, то как на загадочное требование души.
Я сам не умею петь, ни слуха, ни голоса, но и то что-то там напеваю время от времени, какие-то отрывки любимых мелодий, непонятно почему, впрочем, любимых. Казалось бы, для песни нет никаких разумных оснований. Кроме одного: есть географически неосвоенные, белые пятна существования — их и покрывает собой песня.
В этом я вижу что-то архаическое, если не сказать пещерное. Вроде бы такой жесткий по своей логике народ, как французы, не должен был бы петь, а все равно на свадьбах, где-то в провинции, с красными от вина носами поет. И немцы поют, со своем жестокой сентиментальностью, и итальянцы, известное дело, и африканцы, я сам слышал, в деревнях все время напевают себе под нос, и американцы тоже поют.
Откуда берется? И не лучшее ли это доказательство того, что человек больше, шире заявленной и проявленной своей сущности, раз он с готовностью превращается в старый радиоприемник на лампах и начинает что-то из себя вещать в песенном виде?
Песня, какой бы она ни была, религиозна. Она нас связывает с другими мирами, непонятно какими, и в каждой песне, даже если она про Ленина, есть тоска, мука по утраченной цельности, как будто наша душа рассталась со своей половиной и ищет ее, хочет прилепиться, но не получается. И в счастливый момент жизни, когда, казалось бы, все получилось и жизнь удалась, песня нужна не меньше, чем в тоске, а значит, она еще и благодарность.
Песня, охватив собой тело, превращается в танец. Мы поем и пляшем о том, кто мы есть, и общий смысл наших песен в том, что нас мало любят, а мы хотим, чтобы нас больше любили, а нас любить особенно не за что. Общий смысл песен — дай. Не возьми, а дай. Раньше песня была о «возьми»: возьми меня, государство, я буду твоим слугой, буду водить самолеты и ездить на тракторе; или — возьми меня, любимая, я тебе подарю все, что хочешь.
А теперь песня стала «дай». Мне недодали, меня обманули, меня травмировали, дайте мне больше, не мешайте мне жить, я вам покажу, какой я крутой и бодрый. Дай, дай, дай.
А если не дать, будет обида, будет в лучшем случае ирония, эпатаж, а в худшем — месть. Я вам за все отомщу.
Страсти остались, но переместились.
В хорошей песне слова проплывают над смыслом, как гуси над землей. Смысл песни мерещится, и слова в ней не то чтобы бесплатное приложение, а непонятно откуда берущаяся вторая реальность.
Если в словах есть окончательная логика, песня скорее всего не получилась. Эта безумная потеря логики есть и в лучших современных песнях. Ирония лишь в том, что дурные песни с не меньшим успехом свидетельствуют об энтропии наших душ, и непонятно, на кого обижаться.
Зима грехов наших
Ударил наконец мороз. И слава Богу. А то нас всех развезло. На грани замерзания, между дождем и снегом скользим и падаем. Сосульки толстеют и падают. Все падает из рук.
Грехи наши теплые, жидкие, моросящие, и скоро в Сокольниках будут цвести папоротники, как во влажных лесах Амазонки, и появится много негров. Негры будут пестрые, разноцветные. Крикливые будут негры. Не выпьешь водки, войдя в дом с морозца. Солнце вообще куда-то закатилось. Раньше, бывало, высунешь голову в форточку и балдеешь, пока не замерзнешь.
А теперь только пот капает с бледного лба. И тело прыщавое, чешется, как у подростка, не тело, а земляничная поляна. Хорошо, что еще остались зимние праздники, как всеобщие ориентиры календаря, говорят, недавно был новый год, по дачам стреляли фейерверки и лаяли, поджав хвосты, собаки, но елки худосочные, иголок мало, да и те быстро осыпаются, пылесос ими забит, и поэтому по-особому воет, хрипло так, как бог ветра, и елочные игрушки тоже падают, но не бьются, а катятся по полу, как будто ненастоящие. И гирлянды зазывно подмигивают. А между тем где-то в мире есть ты. Ты с кем-то живешь. И где-нибудь, в пустой квартире под звон радио ты открываешь холодильник и смотришь на сырое, остывшее мясо с белыми жилками, берешь его в руки и снова кладешь в холодильник.