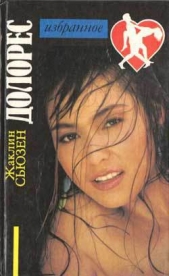Пролог (часть 1)

Пролог (часть 1) читать книгу онлайн
"Пролог" — роман-эссе известного советского писателя и журналиста Генриха Боровика, в котором Америка отражена в том хорошем и светлом, что заложено в ее народе, и в том темном, тяжком и омерзительном, что таится в ее образе жизни и строе.
В первой части книги ( Один год неспокойного солнца ) рассказывается о бурных событиях 1968 года в США, о людях, их вершивших и в них участвовавших.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вначале мультипликационной походкой движутся большие дяди в мохнатых нейлоновых (бывших медвежьих) шапках и выдувают на волынках пронзительную мелодию. За ними — девицы в коротких желтых юбчонках, в высоченных гусарских киверах, вдоль и поперёк обшитых блестящей мишурой. Они ритмично подбрасывают вверх длинные ноги и тамбурмажорские палки. Блестящие жезлы выписывают в воздухе замысловатые фигуры и гоняют по стенам домов стремительных солнечных зайчиков.
Потом старательные молодцы в ярко-синих цирковых костюмах с блестками, выпучив глаза и раздув красные щеки, извлекают из труб, тромбонов, корнет-а-пистонов, валторн, басов лихие фокс-марши (в том числе веселенький фокс-марш на мотив адажио из балета «Лебединое озеро»).
Затем снова девицы, снова нейлонно-медвежьи шапки, моряки, полицейские, солдаты, валторны, жезлы, барабаны…
День поминовения американцы установили столетие назад, «дабы украшать цветами или еще чем-нибудь могилы товарищей, которые погибли, защищая свою родину во время последнего мятежа, и чьи тела сейчас лежат почти в каждом церковном дворе». «Военные оркестры, — гласил указ об установлении Дня поминовения, — в этот день играют похоронную мелодию „Прошедшие дни“».
Всё это я вспоминаю, глядя на «четверговый» парад.
Я давно уже не удивляюсь веселеньким мотивчикам в День поминовения. Привык и к тому, что тощий риверсайдовский парад собирает на своём пути очень немногих зрителей. Могу предсказать, что перед концом шествия над Гудзоном покажется серебряная игла самолета и вышьет по туго натянутому полотнищу неба белую пушистую рекламу «Пепси-кола».
— Вы слышали, Мэри, предсказывают шестьсот пятьдесят убитых в этот уик-энд.
Это говорит женщина, стоящая впереди меня (три жирных пуделька на трёх походках с бубенчиками), своей соседке (один пуделёк в красной попоне, с ошейником, украшенным фальшивыми, я надеюсь, бриллиантами). Женщины говорят мяукающими голосами.
— В самом деле? Как интересно! А сколько было в прошлом году?
— Пятьсот сорок два. Я помню точно, потому что Майкл тогда выиграл на этом пятьдесят долларов у Юджина.
— О! Разве это не обворожительно?
— Да, Юджин предсказал только пятьсот. А Майкл пятьсот пятьдесят и оказался ближе.
— Он так умён, твой Майкл! Он подарил тебе что-нибудь тогда?
— На пятьдесят баков? Что за подарок!
— Да, да, верно. А теперь он заключил пари? Разве не очаровательно будет, если он снова выиграет?
— Юджин держит в секрете такие вещи — чтобы не сглазить. Крошка, не грызи поводок (это — пуделёчку).
— Мы, пожалуй, никуда не поедем на этот уик-энд.
— Почему?
— Столько пьяных! Вдруг мы попадём в число этих шестисот пятидесяти.
— Ах, бедняжка (это — снова пуделечку), ну потерпи ещё немножко. Кончат же они наконец свой идиотский парад!
Пуделечки — все четверо — легонько повизгивают. Они с нетерпением ждут окончания парада поминовения, чтобы вместе с хозяйками перебежать улицу, к деревьям, и облегчить там свои пуделиные страдания.
Повторяю — я привык к такому «поминовению». И даже пуделиный разговор меня не удивляет. Каким ещё может быть официальный парад поминовения в Нью-Йорке 30 мая 1968 года?
Десятки тысяч человек на огромной поляне Центрального парка в Нью-Йорке стоят, тесно прижавшись друг к дружке. Впереди несколько тысяч людей сидят на земле. Земля сыроватая. День пасмурный — утром прошёл дождь, — но тёплый, и дома-скалы, о которые разбиваются зелёные волны Центрального парка, окутаны вязким синеватым воздухом. Земля застлана газетами или одеялами. В нескольких десятках метров от переднего ряда сидящих людей — трибуна с микрофонами и помост. Оттуда говорят ораторы. Оттуда доносятся звуки гитары и голос Пита Сигера.
Это митинг ньюйоркцев против войны во Вьетнаме. Это тоже День поминовения.
Неожиданно в разгар митинга громкоговорители, подвешенные к стреле большого ярко-красного подъёмного крана, перестают работать. Голоса с трибуны еле слышны, да и то только тем, кто впереди.
Среди сидящих поднимается тощая, длинная старуха в больших жёлтых очках на носу, одетая в старенькое трикотажное платье. Она вытягивает длинную жилистую шею в сторону трибуны и прикладывает ладонь к уху. Так ей лучше видно и слышно. Сзади шепчут: «Сядте, мэм!» Она продолжает стоять. «Сядьте, мэм!» — вразнобой кричат сразу человек сто. Безрезультатно. «Сядьте, мэм!» — дружно скандируют человек триста. Старуха оборачивается и Спокойно заявляет, что закона насчет того, чтобы обязательно сидеть, нет. А если им плохо видно, то пусть сами поднимаются на ноги. «Сядьте, мэм!» — весело кричат уже все сидящие. К старухе подходит один распорядитель с нарукавной повязкой — пытается уговорить. Безуспешно. Второй распорядитель. Третий. Никакого впечатления. Она складывает руки шэд впалой грудью и не двигается с места. Более того, она обвиняет распорядителей в том, что они мешают ей слушать песню Пита Сигера. Ей предлагают выйти из толпы и встать около загородки поближе к трибуне. Но она неподвижно стоит со скрещенными руками, как некий усохший монумент независимости.
Поведение отчаянной старухи начинает нравиться толпе. Раздаются весёлые аплодисменты и смех. Старуха замечает дружеское расположение к себе. Оборачивается к аплодирующим, торжествующе улыбается тонкими губами и поднимает над головой два пальца — буква «V» — знак Виктории — победы. Толпа восторженно орёт, смеётся, аплодирует и свистит. Самостоятельность старухи оценена положительно. Тут неподалёку встаёт сухонький старикан и мягко говорит: «Пойдёмте, мэм, оттуда действительно будет лучше видно и слышно», — он показывает в сторону загородки. Старуха несколько секунд смотрит на него подозрительно сквозь жёлтые стекла очков. Потом неожиданно кивает и с независимым видом начинает пробираться к загородке, высоко поднимая над головами сидящих сухие тонкие ноги, обутые, как ни странно, в баскетбольные кеды. Толпа поёт «Мы преодолеем» и шлёт уходящей старухе воздушные поцелуи.
Возле загородки я слышу, как старикан вежливо справляется: «Как вы думаете, мэм, не саботаж ли это? Может, быть, кто-нибудь нарочно перерезал провода?» «Конечно, саботаж», — решительно соглашается старуха и вдруг запальчиво кричит пронзительным, со скрипом голосом: «Эй, эй, Эл-Би-Джей! (то есть Линдон Б. Джонсон). Сколько сегодня убил ты детей?» И будто кто-то испугался этого неожиданного крика: громкоговорители вдруг заработали.
Толпа — в восторге.
В 1966. году в Центральном парке Манхэттена тоже собирались люди на митинг против войны во Вьетнаме.
Что же изменилось в людях за два года?
Ну, во-первых, их стало гораздо больше. Два года назад полиция насчитала 22 тысячи участников антивоенной демонстрации на Пятой авеню. В этом году корреспонденты «Нью-Йорк таймс», снабженные специальными счетчиками, «оценили» демонстрацию в 87 тысяч человек. О точности этой цифры можно спорить. Сами участники считают, что их было от 100 до 150 тысяч. Однако, если даже согласиться с бесспорным минимумом — 87 тысяч, то и это в 4 раза больше, чем в 1966 году.
Но дело не только в количестве.
Мне кажется, того веселого эпизода, о котором я рассказал, не могло быть два года назад. Тогда в настроении этих людей преобладал мотив жертвенности. Теперь к ним пришло ощущение силы. Нет, это вовсе не из-за того, что выступать против войны стало менее опасно. Нет, пятилетнее заключение, к которому приговорён доктор Спок, тюрьма и каторга Дэйвиду Митчеллу, Денису Мора и многим другим борцам против позора Америки свидетельствуют об обратном.
Ощущение силы пришло не потому, что власти стали «мягче». Оно появилось потому, что достигнуто, пожалуй, главное — в значительной мере разбужена и становится материальной силой совесть Америки.
Помню, два года назад я шел по Пятой авеню, останавливался через каждые несколько десятков шагов и обращался к людям, стоявшим за полицейскими перилами, отделявшими демонстрантов от зрителей, с вопросом — что они, зрители, думают о войне во Вьетнаме, о демонстрации. Меня тогда поразило, что многие вовсе не могли ответить на этот вопрос. Просто потому, что он их тогда не волновал. Они не считали нужным определить в нем свою позицию. Им было безразлично.