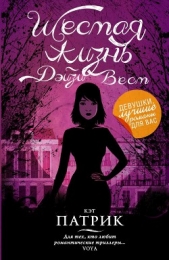Принц Вест-Эндский

Принц Вест-Эндский читать книгу онлайн
Нью-Йорк, дом престарелых. Здесь происходят бурные романы, здесь ставят «Гамлета», разворачиваются настоящие театральные интриги, и порой актера увозят прямо со сцены на кладбище. А герой, в молодости поэт и журналист, вспоминает свое швейцарское знакомство с дадаистами, невзрачным господином Лениным, свою вину перед евреями, которых он убеждал не покидать фашистскую Германию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Положение мое наконец начало обрисовываться. Но по прошлой жизни я никак не был готов к этой минуте. В то же время меня осаждали сомнения. Пухленькая Минни, растянувшаяся на моей кровати, являла собой зрелище заманчивое и соблазнительное. Улыбка ее была приветливой, даже ждущей. Но что, если меня обманывает мое нечистое воображение? Она происходила из класса, чуждого всякой тонкости, и, может быть, просто не понимала, что обращаться с такой просьбой к почти незнакомому мужчине неприлично. И еще более страшная мысль: а вдруг она решила, что я ожидаю платы за угощение у Гонфалона?
— Может быть, я лучше поищу доктора? Она снова похлопала по кровати.
— Мне нужен доктор Отто.
Я подошел и сел на кровать рядом с ней. Она подняла колено, чтобы сделать «поврежденную конечность» более доступной. Ту часть бедра, которая белела в сумраке под юбкой, я притворился, что не вижу, и принялся массировать ей лодыжку.
Она сказала: «Ах», она сказала: «Ох», а потом сказала:
— Теперь, ох, гораздо лучше, но боль переместилась немного выше.
И я стал массировать немного выше, а потом еще немного выше и вскоре очутился в таком месте, о котором прежде только мечтал. Там было тепло и влажно и, о, до чего же чудесно! А Минни двигалась и ерзала в такт массажу, и постанывала, и говорила «о-о» и «а-а».
Она положила на меня руку и сжала то, что под рукой оказалось. — Скорей! — сказала она. — Скорей, пожалуйста! — И рванула ткань и пуговицы, и я сделал то же самое. — Скорей! — сказала она снова и приняла меня, набухшего, и обвила меня ногами, и выбила дробь у меня на спине.
Корнер, Корнер, что ты пишешь! Вспомни, ты ведь не Блум. Ты же умел набросить покров приличия на свои юношеские восторги.
Да, я лишился невинности с официанткой герра Эфраима Минни. Какой же она была прелестной, каким здоровым было ее желание, какой естественной и неосложненной наша связь. С Минни мне действительно посчастливилось. Прямая и простая, она научила нескладного юношу быть мужчиной. Никакой философии она не сформулировала, но по природе была гедонисткой. Тело создано для того, чтобы давать и получать сексуальное удовольствие; единственное, что требуется от мужчины и женщины, — взаимное желание, все остальное — любовь, например, — чревато извращением до такой степени, что может отвлечь от удовольствий. Нет, любовь это прекрасно, если ты любви желаешь, но с этой точки зрения так же прекрасны цепи и хлысты. Свою доктрину она выражала каждым своим действием в спальне. И в этот первый счастливый период я был ее рьяным последователем.
Ленин оказался лишь отчасти прав. Я нуждался в хорошенькой девушке и, безусловно, обрел ее в Минни. С ней я проводил волшебные часы. Но эти занятия не высвободили мою энергию для серьезных дел большого мира. Мысли мои вращались исключительно вокруг плоти. Я томился по неуловимой Магде.
21
Возвращение Полякова. Красный Карлик явил свой изможденный лик сегодня во время обеда — медленно переступая слабыми ногами и опираясь на трость. Жиги не было и в помине. Он подсел ко мне в почти опустевшей столовой: забрался на стул и прислонил трость к столу.
— Вот оно как, товарищ, — сказал он, несколько смущенно. Напротив нас сидела синьора Краускопф-и-Гусман с горящими бездонными глазами, увлеченная бог знает каким страстным патагонским диалогом. Ломтик намазанного тоста, уже забытый, торчал как обмякшая цигарка из ее стиснутых зубов.
За столом у окна устроил дворцовый прием Липшиц и стрелял ящеричной головкой туда и сюда, одаряя своей милостью полдюжины прилипал и сикофантов. Витковер разрезал ему булочку. Мадам Грабшайдт намазала ее сливками, Ластиг налил ему яблочного сока из графина.
Красный Карлик ухмыльнулся.
— Вам уже лучше? — спросил я его.
— Как мне может быть лучше? Коминс посадил меня на рисовый пудинг, без изюма.
За столом Липшица раздался взрыв смеха. «Ох, Наум!» — пропыхтела Грабшайдт, вытирая слезы, вызванные смехом. Витковер захлопал в ладоши: «Оскар Уайльд мог бы у вас поучиться». Режиссер облизнул губы, смакуя свое «bon mot» (Острое словцо (франц.). Франц ) .
За нашим столом Красный Карлик сделал непристойный жест правой рукой, благородно заслонив его левой от безумного взгляда синьоры.
— Вы видели объявление? — спросил я.
— А на что вы рассчитывали — что Липшиц будет сидеть и ждать, когда под ним взорвется бомба? Не стану говорить, что я вас предупреждал. Скажу только одно: а я что говорил?
— Гамбургер уехал на выходные. Сказал, что все обсудим, когда вернется.
— Да, обсудим. Давайте, обсуждайте. А тем временем этот безумный монах, этот Распутин… — Он предостерегающе поднес палец к губам. Над ним стояла Юлалия с рисовым пудингом. — Где мой изюм?
— Доктор Коминс сказал, вам подавать без изюма. Красный Карлик вздохнул.
— Поняли теперь? — сказал он.
Юлалия вразвалку обошла стол и осторожно вынула тост изо рта синьоры.
— Донья Изабелла, налить вам сейчас чаю?
Синьора Краускопф-и-Гусман обратила на нее страстный взор.
— Меня звали «девушка-алтея», — сказала она.
— Еще раз так назовут, вы мне скажите, — ответила Юлалия. — Вот вам чай, донья Изабелла, золотко.
Красный Карлик подождал, пока Юлалия не скрылась на кухне.
— Время разговоров кончилось, настало время действий.
— Какого рода действий? — спросил я.
Партия Липшица поднялась из-за стола в буйном настроении и во главе с режиссером вышла из столовой. Красный Карлик молча проводил их взглядом.
— Какого рода действий? — повторил я.
— Не важно какого. Когда я приступлю к действиям, вы об этом узнаете. Тогда будет время поговорить. — Он взял ложку рисового пудинга и подержал во рту, проверяя вкус. Когда он проглотил рис, кадык его подпрыгнул сантиметров на пять в морщинистой шее, потом опустился на место. — Изюму не хватает, — сказал он.
«Эмма Лазарус» снова заполняется; воскресный день на исходе. Сидя за письменным столом, я ощущаю возобновившуюся активность в доме: жужжание голосов в коридоре, гудение лифта, аккорды флейтового концерта Хофмайстера (Антон Хофмайстер (1754-1812) — немецкий композитор и музыкальный издатель.), клекот спускаемого бачка. Кухонный аромат, пробравшийся снизу по вытяжке, сообщает мне, что сегодня у нас мясной суп с перловкой. Окно мое выходит на улицу, а не на авеню. В этот час и в это время года такое расположение не лишено преимуществ. Когда солнце, покинув парк на том берегу, готовится сесть в Нью-Джерси, свет его, бьющий под острым углом в мое окно, окрашивается чудесной прозрачной желтизной, столь любимой голландскими мастерами. Кисть так и просится в руки. Между тем Хофмайстер за дверью любезно уступил место Моцарту и «Свадьбе Фигаро».
О, странности любви! Я листаю мою рукопись, разросшуюся до удивительной толщины, — мои скромные попытки de la recherche du temps perdu (Поисков утраченного времени (франц.).), — и сам поражаюсь количеству страниц, которые я посвятил этой неиссякаемой теме. «Voi che sapete che cosa e amor» (Вы, знающие, что такое любовь (итал.)) — поет Керубино на той стороне коридора. Да, странности любви, в самом деле, — материя для комической оперы. Лишь немногим дано — в искусстве или в жизни — придать своей любви величественность. Мы, остальные, должны полагаться на этих немногих, чтобы облечь хотя бы заемным достоинством наши малозначащие романы. Я уж не говорю здесь о Блуме, который вообще не заслуживает быть упомянутым, поскольку любовь для него — немногим больше, чем вирусная инфекция, подкожный зуд, требующий непрерывного почесывания. Но возьмите Гамбургера, нашего Джамбо, который срывается в Хамптонс и даже себе не может признаться в том, что намерен склонить безгрешную к греху — взять приступом неприступную добродетель Гермионы Перльмуттер, преображенной его воображением в Джульетту.
Как безумен род людской! Даже бедняга Синсхаймер, ныне постоянный обитатель Минеолы, не избежал этого. Прекрасно помню один вечер, когда мы сидели в гостиной, беседуя о «Троиле и Крессиде», где Шекспир, как никогда сардонически, высказывается об этой расслабляющей страсти. У противоположной стены, болтая и смеясь, сидели три наши дамы (две из них, между прочим, отбыли в Минеолу раньше Синсхаймера). Глаза у него затуманились. «Вот какая она штука», — сказал он. И запел: «С какой же радостью я женщин целовал», — словно вспомнив время, когда его миром была не «Эмма Лазарус», а оперетта Легара «Паганини».