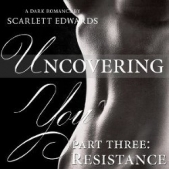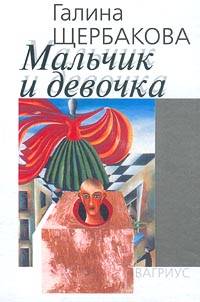Море

Море читать книгу онлайн
Роман Джона Бэнвилла, одного из лучших британских писателей, который выиграл Букеровскую премию в 2005 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хлоя, ее жестокость. Тот берег. Наше плаванье в темноте. Ее сандалька, посеянная той ночью у входа в танцзал, — туфелька Золушки. Все прошло. Все пропало. Все равно. Устал, устал и надрался. Все равно.
А у нас была буря. Всю ночь штормило, и потом еще долго утром, диво дивное, ничего подобного по силе и длительности не припомню в этих мягких широтах. Прямо-таки наслаждался, сидя на своей помпезной постели, как на катафалке, если это уместное слово, комната ходуном ходила, небо ярилось, ухало, громыхало, ломалось. Наконец-то, думалось, наконец-то стихия взбунтовалась до такой степени, что соответствует пучине внутри у меня! Я себя чувствовал преображенным, чувствовал, что вагнеровским полубогом воссел на грозную тучу и дирижирую гулко-мощными струнами, небесно-бряцающими кимвалами. В этом состоянии взвинченной эйфории, разогретый парами бренди и молнией, я в новом, потрескивающем свете взглянул на свое положение. То есть на свое положение в целом. Я всегда был уверен, всем разумным доводам вопреки, что пусть нескоро, когда-нибудь, но настанет миг, когда с вечной репетицией, каковую являет собой моя жизнь, с ляпами, огрехами, промахами, будет покончено и начнется иная драма, к которой с такой серьезностью постоянно готовлюсь. Обычное заблуждение, знаю, всем присущее заблуждение. Но вчера ночью, под всю эту ярость Вальгаллы, вдруг подумалось: уж не накатывает ли миг, когда придется выйти на сцену, что называется, — приступить.Не знаю, как именно он будет выглядеть, мой драматический скачок в самую гущу действия, и что будет твориться на сцене. Однако предвкушаю крутой подъем, апогей. Это я не о посмертном преображении, отнюдь. Не допускаю возможности загробной жизни, ни божества, способного нам ее предоставить. Учитывая, какой Он устроил мир, было бы прямо невежливо по отношению к Богу верить в Него. Нет, то, чего дожидаюсь, — миг земного выражения. То-то и оно, вот именно, вот: когда удастся выразиться, до конца. Преподнестись как заключительная благородная речь. Одним словом, сказаться. Не в том ли всегда была моя цель, не в том ли у всех у нас тайная цель — скинуть с себя плоть, полностью преобразиться в бесстрастный дымчатый дух? Гром, треск, грохот, даже стены трясутся.
Кстати: эта кровать, моя кровать. Мисс Вавасур уверяет, что она всегда тут была. Грейсы, отец и мать, — значит, здесь они спали, на этой самой кровати? Вот ведь мысль, прямо не знаю, как от нее отвязаться. Хватит, не думать, не надо, так-то оно лучше — спокойней, во всяком случае.
Еще с одной неделей разделались. К концу сезона — как оно бежит, время, земля летит очертя голову к последнему резкому сгибу года. Невзирая на застоявшееся тепло, полковник ощущает близость зимы. Стал что-то неважно себя чувствовать, почки, так он выражается, застудил. Говорю, что это была одна из болезней моей матери, собственно, одна из любимейших, — не прибавляю я, — но он смотрит на меня как-то странно, может, думает, что над ним потешаюсь, — может, и правильно думает. Ну как можно застудить почки? Мама не больше полковника вдавалась в подробности, и даже Медицинский словарь Блэка на сей счет молчит. Может, полковнику хочется подсунуть мне некое объяснение тому, что он шаркает днем и ночью в сортир, взамен более серьезной причины, которую я подозреваю. «Нет, я не в лучшем виде, — он говорит, — и это факт». Взял манеру являться к столу в кашне. Уныло ковыряет еду, малейшее поползновение на веселость встречает томным, страдающим взором в сопровождении слабого вздоха, переходящего в стон. Я еще не описал его дивно-хроматический нос? Он меняет оттенки — в ответ на продвижение дня и малейшие перемены погоды — от блекло-лилового, через бордо, до густого, царственного пурпура. Вдруг подумалось, не rhinophyma ли это, не знаменитый ли нос пьяницы по доктору Томсону? Мисс Вавасур не слишком верит в его болезни, мне подмигивает у него за спиной. Он, по-моему, из кожи вон лезет в попытках снискать ее милость. В ярко-желтом жилете всегда педантически расстегнута нижняя пуговка, острые концы раздвинуты над аккуратным брюшком, и весь он сосредоточен, насторожен, как вот самец какой-нибудь птицы в экзотическом оперении — павлин, фазан, — важно вышагивает поодаль, пылая взором, прикидываясь равнодушным, покуда невзрачная самочка преспокойно выклевывает из песка червяков. Мисс В. отметает его тяжеловесно-робкие ухаживанья с раздражением, в то же время слегка смущаясь. По обиженным взглядам, какие он ей кидает, заключаю, что прежде она давала ему повод для надежды, но все было тотчас перечеркнуто, как только я заявился и мог стать свидетелем ее слабости, и теперь она сама на себя злится и вовсю старается меня убедить, что если что-то там он и принял за поощрение, так простую учтивость хозяйки.
Часто сам не знаю, куда девать время, и вот взялся составлять распорядок типичного дня полковника. Встает он рано, страдает бессонницей, и выразительным молчанием, поджатием губ, пожиманием плеч дает нам понять, что его преследуют такие кошмарные картины сражений, какие и под наркозом не дали б уснуть, хоть я сильно подозреваю, что пищу для мучительных воспоминаний он вкушал не в далеких колониях, а где поближе, на колдобинных проселочных дорогах Саут-Арма, скажем. Завтракает он один, за столиком в углу у камелька на кухне — нет, уголка не припомню, камелька тем более, — ибо, как он неустанно торжественно возглашает, одиночество есть наилучшая предпосылка для важнейшей трапезы дня.Мисс Вавасур рада ему не мешать и в сардоническом молчании подает ему бекон, кровяную колбасу и яйца. Он держит собственный набор пряностей, бутылочки без этикеток с бурой, красной, зеленой жижей, которую подбавляет к еде, священнодействуя, как алхимик. И он сам готовит какую-то пасту не пасту, нечто цвета хаки, куда входят анчоусы, карри, бездна перца и бог знает что еще; пахнет почему-то псиной. «Отлично прочищает мешок», — говорит. Я не сразу допер, что мешок, который он так часто поминает, но только не в присутствии мисс Вавасур, — это желудок и окрестности. Он всегда горячо озабочен состоянием мешка.
После завтрака — утренний моцион, в любую погоду по Станционной, дальше по Скальной мимо Берегового Кафе и обратно вкруговую, в обход домиков на маяке, мимо Перла, где он останавливается, покупает утреннюю газету и упаковку крепчайших мятных лепешек, которые сосет день-деньской, так что весь дом провонял их смутным, тошнотворным запахом. Ходит он бодрой трусцой, которую, конечно, хочет выдать за военную поступь, хоть в первое же утро, увидев его отдаляющуюся спину, я даже вздрогнул, заметив, что при каждом шаге он выкидывает левую ногу, в точности как, бывало, мой давно покойный отец. Первые недели две после моего приезда он все еще приносил из этих походов какой-нибудь привет для мисс Вавасур, ничего такого слюнявого, нет, ветку красноватых листьев, зеленый прутик, все, что можно преподнести просто как предмет садоводческого интереса, и все это без комментариев помещал на столе в прихожей рядом с садовыми перчатками мисс Вавасур и могучей связкой ключей. А теперь возвращается с пустыми руками, если не считать газеты и мятных лепешек. А все мой приезд; мой приезд положил конец церемониалу обхаживания.
Газета поглощает остаток утра, он ее читает от корки до корки, ума набирается, ничего не пропустит. Сидит в салоне у камина, на котором спотыкливо, по-стариковски тикают часы, на получасе, на двух четвертях сперва замрут, потом разрешаются хилым сиротским треньканьем, зато на самом часе в отместку хранят молчанье. У него свое кресло, своя стеклянная пепельница, своя подставка для газеты. Видит ли он медный луч, падающий сквозь оцинкованные окна эркера, пучок засушенных, синих, как море, и нежно-бурых гортензий на решетке камина, где даже и теперь еще нет нужды разводить первый предзимний огонь? Видит ли, что мир, о каком он читает в газете, уже не его мир? Может, теперь все усилья у него, как и у меня, уходят на то, чтоб не видеть? Я поймал его, он украдкой перекрестился, когда, зародившись в деревянной церкви на Береговой, раскатился до нас звон к вечерне.