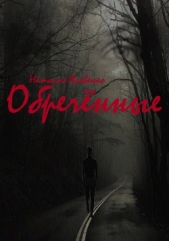Сочинения. Том 2. Невский зимой
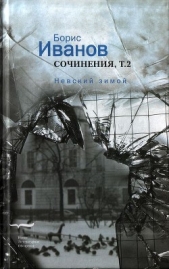
Сочинения. Том 2. Невский зимой читать книгу онлайн
Борис Иванович Иванов — одна из центральных фигур в неофициальной культуре 1960–1980-х годов, бессменный издатель и редактор самиздатского журнала «Часы», собиратель людей и текстов, переговорщик с властью, тактик и стратег ленинградского литературного и философского андеграунда. Из-за невероятной общественной активности Иванова проза его, публиковавшаяся преимущественно в самиздате, оставалась в тени. Издание двухтомника «Жатва жертв» и «Невский зимой» исправляет положение.
Проза Иванова — это прежде всего человеческий опыт автора, умение слышать чужой голос, понять чужие судьбы. В его произведениях история, образ, фабула всегда достоверны и наделены обобщающим смыслом. Автор знакомит нас с реальными образами героев войны (цикл «Белый город», «До свидания, товарищи», «Матвей и Отто»), с жертвами «оттепельных надежд» («Подонок») и участниками культурного сопротивления десятилетий застоя — писателями и художниками («Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец», «Медная лошадь и экскурсовод», «На отъезд любимого брата»). Главы из мемуаров «По ту сторону официальности» открывают малоизвестные стороны духовного сопротивления диктатуре.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Корзухин начал новую серию рисунков. Он, как всегда, молчал. Композиции стали двойными. Что-то происходило в сознании Мастера? Коля перечел Достоевского и пролистал каталоги, выискивал аналогии у других художников. Казалось, это был только прием: под прямым углом падает на набережную тень дома и, как черное покрывало, ложится на деревья, человека, ларек, детскую песочницу. Но линия горизонта изгибается, начало композиции, как осевая точка, перемещается вниз, и оттуда, из этой точки, берут происхождение независимые друг от друга двойные изображения. Сферическое пространство оказывалось стянутым невидимыми линиями, но все, что на листах было изображено: люди, деревья, дома, птицы, машины, как бы не знали, не помнили, не догадывались о своем единстве, и это придавало их бытию значение не тайного, как прежде у Корзухина, а явного абсурда. Некоторые листы напоминали взрыв: взрыв — и все разлетается в разные стороны, сохраняя невыносимо нелепые позы, жесты, — протягивали друг другу руки для рукопожатий, смотрелись в зеркало, вешали на балконную веревку белье, наказывали собаку. Все, что можно было сделать в этом мире, оказывалось нелепым.
Серия росла быстро, Корзухин явно искал единственное решение темы. Алена и Коля слышали шорохи его упрямой работы, дыхание, скрип рассохшегося паркета, перо стукалось о дно пузырька с тушью. Незаметно уходил на улицу и незаметно, иногда после полуночи, возвращался, Алена поднималась и наливала ему чай. Мастер, не изменяя привычкам одинокой жизни, ломал хлеб руками и ставил стакан мимо блюдца. В первые минуты его возвращений можно было увидеть, с каким выражением лица он странствовал по улицам.
— Маэстро, — сказал Студент, когда присмотрелся к новой серии рисунков, — не хотите ли вы назвать свою графику «Атомная эра»? Вообще, художникам пророчества не удаются. Но что вы все-таки хотите сказать: экспансия или распад? Если экспансия, тогда попробуем представить, как Алена разливает чай где-нибудь на Венере.
Мастер засмеялся чему-то своему, глядя вкось с веселым напряжением.
— Но, — продолжил Студент, — человек всегда хочет иметь дело с чем-то одним. Один мир, один Бог, один вождь, одна система: он — и что-то второе. Если бы так и было, человек, во всяком случае, сумел бы приспособиться — стал бы или зверем, или Богом, и все проблемы разрешил раз и навсегда. Но ему постоянно во сне и наяву мнится третье, иная система координат. Я сейчас сделаю предположение: третье — это и есть прекрасное, соблазнительно прекрасное. Что нам до возможностей, которые не прекрасны! В двумерном мире есть только необходимое… Я вспоминаю древнюю и верную интуицию: поэтами, художниками владеют демонические силы, они обольщают человека голосами и красками, словами и мечтами. И он идет за ними следом, позабыв надежную схему двойного мира.
— Ты хорошо говоришь, — глухо отозвался Корзухин из своего угла, — но-не-в-этом-дело.
Колю не порадовала редкая похвала Мастера. Он смутился, стал торопиться домой. Растерянный, попрощался, стал просить, чего никогда раньше не делал, извинения за то, что сегодня так долго у них засиделся.
— Как страшен мир, — думал Студент, выбегая на улицу. — Я бы долго так не выдержал. Но Мастер видит жизнь без прикрас, день за днем. Черпать воду решетом: отсеивать диковинные крупицы смысла и черпать дальше, не придавая улову никакого значения. Знать: летишь в пропасть, и при этом застегивать пуговицы и пересчитывать мелочь в кармане. Ведь он ни на что не надеется! А я? «Ваши картины когда-нибудь будут висеть в музеях!» — я буду повторять эти пошлости во всех созвездиях, как на Венере Алена все так же будет разливать чай: стоять нужно слева, крышечку чайника придерживать салфеткой…
Горькое открытие увидеть жизнь в безжалостном сцеплении сил и торопиться записать свое видение, которое, кажется, сам и порождаешь. Но нет, ты только пленник того, что совершается, потому что, как ни пытаешься вырваться за ограду вольера (что из того!), ты только повторяешь вечные движения всех пленников.
— Кажется, я напал на след Мастера, — думал Коля. — Сейчас или никогда, — решил он, думая про свое сочинение о Корзухине.
Кофе и сигареты — несколько дней он не выходил из дома. И чем увереннее он приближался к концу статьи, тем праздничнее представлялась ему встреча с Мастером. Но в субботу, когда была написана последняя фраза и он подошел к зеркалу растереть мышцы лица, его окатила такая волна покоя, что сложить листки в папку представилось неисполнимым делом. Он все оставил как было, даже не погасил свет и вышел на улицу. Улица — белая, мягкая, красиво уходила в тупик морозного тумана. Лица прохожих, их речи намекали на уют счастливых часов и на то, что в этой жизни ничему не стоит придавать слишком большое значение. Но в зале (шла французская кинокомедия) он почувствовал безобразность в смехе толпы, однако смеялся со всеми и, как бы краем глаза, видел свою собственную физиономию в виде идиотской маски. И все же, как после той ночи, когда самоубийство казалось Коле единственным спасительным ходом, он и теперь нуждался в отсрочке и пережил несколько дней одинокой, пустой жизни, как сладкую епитимью. Но когда, наконец, направился к Мастеру, вдруг почувствовал, что опаздывает или — уже опоздал. Он взял бы такси, если были бы деньги.
Свет в окне Корзухина подействовал успокоительно.
— Итак, — сказал Студент, пристраивая свое пальто на вешалке и оборачиваясь к Корзухину, — смею сообщить: в ваших картинах, в ваших рисунках совершается одно и то же, раз за разом, с механистическим, позволю себе выразиться, постоянством, что для вас, конечно, не является новостью, — вы, помню, как-то обронили слово «неотвратимость», но только теперь оно стало новостью для меня.
Тут же, у двери, расческой Студент поправил волосы и поклонился Мастеру, как будто кто-то другой открывал ему только что дверь.
— Вопрос заключается в том, что совершается и что повторяется. И я бы хотел, чтобы вы это пояснили. На мой вопрос, я знаю, вы вряд ли станете отвечать, но, по крайней мере, вы должны знать, какая задача у тех, кто хочет вас понять. Если вы не возражаете, я прочту некоторые места из моей работы о вашем творчестве…
Если бы свет не падал на лицо Мастера и Коля не видел бы широко открытые глаза: неподвижные, скошенные немного в сторону, немного птичьи в своем зорком безразличии, — он подумал бы, что Корзухин дремлет. Однажды он видел, как Мастер спал, его лицо стало еще более одутловатым, безвозрастным, возможно, таким, как у вавилонских астрономов, привыкших созерцать волю божеств еще до того, как они приведут в действие царей и народы. Повинуясь двойному ходу мысли, Коля вновь ощутил тревогу опоздания.
На столе лежала записка. Студент посмотрел на Мастера и понял, что прочесть ее он имеет право.
«Корзухин, — прочел он, — случилось несчастье. Несколько дней назад я встретила человека, который был когда-то моим другом. Человек по-прежнему любит меня, но поверь, не в этом, как ты говоришь, дело; но в том, что человек пропадает. Я решила остаться с ним, хотя не знаю, что это изменит.
Не сердись. Я знаю, что ты простишь и забудешь меня. Ты сильный. Ты привык идти один, и мои хлопоты вокруг тебя такие ничтожные. Я смотрела твои картины, написанные за наш год, они мне дают надежду, что ты даже не особенно заметишь мое исчезновение. Я могла бы многое написать о том, как тебе благодарна. Я прекрасно поняла, какой нужно быть, чтобы сделать что-нибудь стоящее… Я начинаю говорить глупости. Извини меня и прощай».
Коля закричал:
— Я знал, я знал, что этим все кончится! Это обыкновенная… — но не договорил и заходил взад и вперед по прыгающим плашкам паркета. — Вот штампованная продукция века! Как ее ненавижу! Ты, Корзухин, видишь глубоко, но иногда то, чего нет. Должно быть! И все-таки нет. Ты слишком, Мастер, доверчив. Ты и этой записке веришь! Здесь нет ничего, кроме лжи. Ты думаешь, она собирается спасать своего бывшего возлюбленного?! Там нечего спасать, Корзухин. Это кудельный анемичный карась. Я не говорю о его картинках — Алена все по этой части понимает. Старик, с тобою рядом стыдно жить — вот в чем дело! Ты понимаешь, что ты невыносим? От тебя хочется бежать, исчезнуть и жить так, как будто не существуешь. А ты увековечиваешь… Что?.. В одном она права: ты ее не заметил. Но она, вижу, растопила твое сердце…