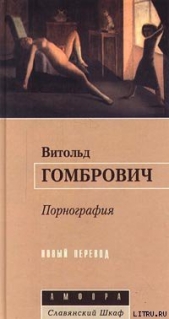Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
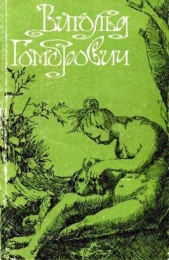
Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника читать книгу онлайн
Представленные в данном сборнике рассказы были написаны и опубликованы Витольдом Гомбровичем до войны, а в новой редакции, взятой за основу для перевода, — в 1957 г.; роман «Порнография» — написан в 1958, а опубликован в 1960 году. Из обширного дневникового наследия писателя выбраны те страницы, которые помогут читателю лучше понять помещенные здесь произведения. Давно вошедшие в наш обиход иноязычные слова и выражения оставлены без перевода, т. е. именно так, как это сделал Автор в отношении своего читателя.
При переводе сохранены некоторые особенности изобретенной Гомбровичем «интонационной» пунктуации, во многом отличной от общепринятой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мама уже готова. Я велела запрягать.
— В костел, на службу, ведь воскресенье, — пояснил Иполит. И добавил тихо, для себя: на службу, в костел.
И произнес:
— Если господа захотят с нами, милости просим, а так никого не неволим, у нас — веротерпимость, так? Я лично — поеду, потому что, пока я тут, буду ездить! Пока есть костел, я — в костел! И с женой, с дочкой, в повозке — не от кого мне прятаться, пусть смотрят. А-а их, пусть таращатся — как из фотоаппарата… пусть фотографируют!
И шепнул: — Пусть фотографируют!
Фридерик самым вежливым образом объявил о нашей готовности присутствовать на богослужении. Колеса нашей повозки попадают в песчаную колею и издают глухой стон, а когда мы въезжали на пригорок, постепенно открывалась застывшая в недвижном волнении ширь земли, низко расстеленной в самом низу под огромными высотами неба. Там, далеко, железная дорога. Мне хотелось смеяться. Повозка, кони, возница, горячий запах кожи и лака, пыль, солнце, назойливо кружащаяся перед носом муха и стон шин, трущихся о песок — (Боже!) все это известно с незапамятных времен и ничего, абсолютно ничего не изменилось! Но когда мы оказались на пригорке и нас обдало дыхание пространства, на границе которого маячили Свентокшиские горы, двуличие этой поездки чуть не сразило меня — поскольку мы были как на олеографии — как старая умершая фотография из старинного семейного альбома — а на пригорке — давно умерший экипаж был виден даже из самых отдаленных концов, в результате чего окружающая местность стала злобно-насмешливой, люто-презрительной. Двуличие мертвой нашей езды передавалось посиневшей топографии, которая, можно сказать, неуловимо перемещалась под воздействием и давлением именно этой нашей езды. Фридерик на заднем сидении, около пани Марии, смотрел вокруг и восхищался колоритом, по дороге в костел, как будто он и впрямь собрался туда ехать — наверное, никогда он еще не был таким общительным и любезным! Мы съехали в грохолицкую ложбину, туда, где начинается деревня, где всегда грязь…
Помню (и это не лишено значения в событиях, о которых пойдет разговор), что над иными ощущениями преобладало ощущение пустоты, тщетности — и снова, как в прошлую ночь, я было высунулся из повозки, чтобы заглянуть в лицо вознице, но снова некстати… поэтому остались мы за его непроницаемой спиной, и так всю дорогу. Мы въехали в деревню Грохолице, слева — речка, справа — редкие халупы и заборы, курица и гусь, корыто и лужа, собака, мужик или по-праздничному разодетая баба, тропинка, ведущая к костелу… покой и сонливость наших деревень… Но было такое ощущение, что как будто смерть наша склонилась над водной гладью и будила в ней свое отражение, прошлое нашего приезда отражалось в этой вечной деревне и тарахтело в самозабвеньи — которое было лишь маской — которое служило лишь для прикрытия чего-то другого… Чего? Какой бы то ни было смысл… войны, революции, насилия, распущенности, нищеты, отчаяния, надежды, борьбы, ярости, крика, убийства, рабства, позора, издыхания, проклятия или благословения… какой бы то ни было — понимаете — любой смысл был слишком слабым, чтобы он смог пробиться через кристалл этой идиллии, и оставался нетронутым этот давно канувший в Лету и служивший лишь фасадом видок… Фридерик самым любезным образом разговаривал с пани Марией — а может, он поддерживал разговор только для того, чтобы не сказать чего-нибудь другого? — тут мы заехали под каменную стену, окружавшую костел, и собрались выходить… и вот здесь я совершенно перестал понимать, что есть что… обычные ли были те ступени, по которым мы входили на площадь перед костелом, или может быть они тоже…? Фридерик снял шляпу, подал руку пани Марии и проводил ее к порогу храма на виду у всех — а может, он ее провожал лишь затем, чтобы не сделать чего-нибудь другого? Вслед за ним выкатился Иполит и, непреклонный, напористый, устремил свои телеса вперед, зная, что завтра его могут прирезать как свинью — устремил стихийно, наперекор ненавистям, мрачный и отрешенный. Барин! А может он и барином-то был лишь для того, чтобы не быть кем-то другим?
Но когда нас поглотил пронзенный горящими свечами, наполненный духотой плаксивого, шепчущего пения, звучащего пресной и скорчившейся людской массой полумрак… тогда исчезла прятавшаяся многозначность — как будто какая-то рука, которая сильнее нас, вернула господствующий порядок богослужения. Иполит, бывший прежде барином со скрытой злостью и страстью, чтобы только не пропасть, наконец успокоился и, благородный, уселся на почетной скамье, приветствуя кивком головы сидевшую напротив семью управляющего из Иканя. Это была та минута перед богослужением, когда люди без священника предоставлены сами себе, а их жалостливое, смиренное, пискливое и нелепое пение объединяет их и ограничивает, и потому — делает безвредными, вроде пса на привязи. Какое укрощение, какое умиротворение, что за блаженное облегчение здесь, в этой каменной извечности, где мужик снова становится мужиком, господин — господином, богослужение — богослужением, камень — камнем и все снова входит в свои рамки.
Однако Фридерик, севший рядом с Иполитом на почетной скамье, опустился на колени… чем слегка нарушил мое спокойствие, поскольку то, что он делал, было немного нарочито… меня не отпускала мысль, что он опустился на колени только лишь затем, чтобы не сделать чего-либо такого, что не было бы коленопреклонением… но вот слышны колокольчики, ксендз выходит с потиром и, поставив его на алтарь, кладет поклоны. Колокольчики. И вдруг какой-то решающий акцент ударил в мое существо с такой силой, что, опустошенный, в полуобморочном состоянии, я встал на колени и в жуткой неприкаянности своей чуть было не стал молиться… Но Фридерик! Мне казалось, я подозревал, что опустившийся на колени Фридерик тоже «молится», и я даже был уверен — да-да, зная его тревоги, — что он не делает вид, а «молится» на самом деле, в том смысле, что он хочет обмануть не только других, но и себя. «Молится» для других и для себя, однако молитва его была лишь ширмой, прикрывающей беспредельность его не-молитвы… а стало быть, это был бросающийся в лицо, «эксцентричный» акт, выводивший из костела наружу, в беспредельное пространство абсолютной не-веры — акт по самой сути своей противоречивый. Так что же творилось? Что же начало происходить? Ничего подобного я никогда не переживал. Я никогда бы не поверил, что вообще нечто подобное может иметь место. Но — что же произошло? Собственно говоря, ничего, собственно говоря, вышло так, что чья-то рука вынула из богослужения все его содержание, его нутро — ксендз двигался, вставал на колени, переходил от одной стороны алтаря к другой стороне, служки звонили в колокольчики, поднималось курение кадила, однако содержание из всего этого улетучивалось, как газ из воздушного шарика, и… вялое… неспособное более к оплодотворению… богослужение поникло в страшной импотенции! Устранение содержания было убийством, совершенным походя, вне нас, вне богослужения, при помощи безгласного и убийственного комментария того, кто наблюдал со стороны. И богослужение оказалось беззащитным, поскольку это произошло вследствие какой-то данной вскользь интерпретации, собственно говоря, никто в костеле и не противился богослужению, даже Фридерик сочетался с ним как нельзя лучше… а если и убил его — то лишь, скажем так, с изнанки. Что же касается стороннего комментария, убийственного подстрочного примечания, то было оно продуктом жестокости — продуктом острого, холодного, пронизывающего насквозь, неумолимого сознания… и я понял, что мысль привести этого человека в костел была чистым безумием, Боже, его следовало держать подальше от всего этого! Костел был самым страшным для него местом!
Однако свершилось. Протекавший процесс был грубым приближением к действительности… прежде всего он был развенчанием спасения, в результате чего уже ничто не могло спасти эти хамские прогорклые рожи, лишенные сейчас какого бы то ни было освящающего флера и поданные в сыром виде, как объедки. Это уже был не «народ», не «мужики», и даже не «люди», это были такие существа, как… такие, какими они и были… и на их грязь уже не могла снизойти благодать. Но дикой анархии этого льноволосого многоголовья соответствовало не менее наглое бесстыдство наших лиц, переставших быть «господскими», или «культурными», или «утонченными», и ставших чем-то вопиюще тождественным самим себе — как лишенные модели карикатуры перестают быть карикатурами на «что-то», а становятся лишь самими собой — и голыми как задница! Взорвавшееся с двух сторон — с господской и с хамской — уродство соединилось в жесте ксендза, который священнодействовал… над чем? Над чем? Да ни над чем. Но это еще не все…