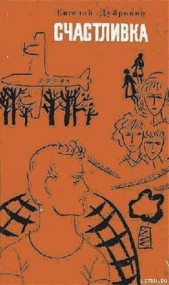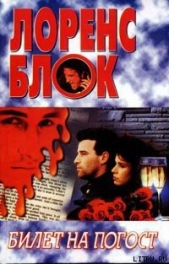Дальше ваш билет недействителен

Дальше ваш билет недействителен читать книгу онлайн
Ромен Гари (1914–1980) — известнейший французский писатель, русский по происхождению, участник Сопротивления, личный друг Шарля де Голля, крупный дипломат. Написав почти три десятка романов, Гари прославился как создатель самой нашумевшей и трагической литературной мистификации XX века, перевоплотившись в Эмиля Ажара и став таким образом единственным дважды лауреатом Гонкуровской премии.
В романе «Дальше ваш билет недействителен» Ромен Гари оказался одним из немногих писателей, взявшихся за непростую и опасную тему любви на склоне лет. Что ждет человека, в жизни которого наступает время сплошных потерь? Рецепт Гари необычайно прост: умереть и родиться заново.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она перестала меня слушать и смотрела куда-то через мое плечо. Я обернулся, сжав кулаки. Какой-то североафриканец. Он шел за нами с первых наших шагов по кварталу. Скорее, шел за мной. Его взгляд не оставлял меня ни на секунду. Улыбка тоже. Он предлагал нам свои услуги. Я трахать твой жена, если хочешь. Ты можно смотреть. Я это делать за тебя, если хочешь. Ты ищешь кто-то трахать твой жена, я знаю, понимаю. Он не говорил ничего. Это я, Жак Ренье, так изгалялся. Ему было, наверное, лет тридцать, поджарый, в джинсах, которые чуть не лопались у него на бедрах. Желто-красная шапочка. Здесь он был у себя. Я хочу сказать, во мне. Быть может, он жил этим. Не жены. Мужья. Эксплуатация иностранного пролетариата порой принимает для эксплуатируемых занятные формы. И начиная с того момента, как вы привыкаете быть эксплуатируемым, вам и самим в конце концов перепадает кое-что от эксплуатации. Вы эксплуатируете эксплуатацию.
Я почувствовал на своем плече дружескую руку:
— Ну, ну, месье.
Какой-то негр, накопивший, должно быть, килограммов сто хорошей жизни, дружелюбно встрял между нами. Он только что вышел из ресторана, с физиономией, где все к лучшему в этом лучшем из миров.
— Ну-ка, садитесь ко мне в такси… Не будете же вы бить ему морду в присутствии мадам…
Я усадил Лору и обернулся. Североафриканец небрежно прислонился к стене и продолжал мне улыбаться.
— Знаете, не надо на них сердиться… У них тут никакого воспитания нету… Арабы ведь женщин не уважают… Вы туристы?
— Yes, — ответил я.
— Вам бы надо заглянуть ко мне, на Мартинику. Вас бы там хорошо приняли. У нас там еще остались хорошие манеры. Там еще все очень по старинке. Старая Франция. Знаете это выражение, «старая Франция»?
— Нет, — сказал я. — Мы иностранцы. Скандинавы.
— Старая Франция, это как в былые времена. В общем, немного старомодно. Мы на Мартинике еще поем песни восемнадцатого века. У нас там добродушно. Вам куда?
Лора молчала. В ее глазах стояли слезы — от обиды, непонимания, моей жестокости, несправедливости. Внешние признаки ярости и злости, которые я испытывал к самому себе, были проявлением высокомерного достоинства, относившегося, казалось, к более высоким, поруганным принципам.
— У нас на Мартинике теперь хорошие гостиницы, а раз вы globe-trotter [11], то вам непременно надо к нам завернуть, потому что там умеют радоваться жизни…
Выходя из машины, я дал ему хорошие чаевые, наклонился к окошечку и пропел:
и был доволен, оставив позади себя слегка сбитый с толку фольклор.
Я отлично знал, что это прорвется, но все-таки надеялся, что мы оба дотянем до лифта. Но вот уже несколько недель, как я с каждым днем отчуждался все больше, а в паре нет ничего более бесчеловечного — или человечного, ибо, к несчастью, это часто одно и то же, — чем требовать от другого терпения и терпимости, которых больше не имеешь к самому себе. Я уже протягивал руку за ключом, когда уловил на лице консьержа то внезапное отсутствие выражения, которое всегда является признаком глубокого гостиничного волнения.
Лора плакала. Нас окружали толстые сигары, алмазы на пальцах и все душевное спокойствие швейцарских сейфов, и на нас смотрели с неодобрением, словно давая почувствовать дирекции, что за этим палас-отелем дурно следят и что твои слезы, Лора, должны были бы воспользоваться служебной лестницей.
— Что я тебе сделала, Жак? Зачем ты так?
— Родная моя, родная…
Ты рыдала в моих объятиях, и на нас старались не смотреть: правила хорошего тона…
— Идем, Лора, не плачь здесь, пусть это достанется мне одному…
— Да поговори же со мной, Жак! Поговори со мной по-настоящему! Ты со мной уже не тот! Можно подумать, что я тебя пугаю, что ты злишься на меня…
— Конечно, злюсь; если бы я тебя не любил, я был бы так счастлив с тобой!
— Я хочу, чтобы ты мне сказал…
— … но я тебя люблю, люблю, а значит… не хочу ставить на себе крест!
— Ты не умрешь!
— Я не сказал умереть, я сказал — ставить крест… Есть мужчины, которые умирают, а потом продолжают жить любыми средствами…
— Да, месье, будет сделано, месье, — сказал консьерж, которого я знал тридцать лет, но сейчас он обращался к кому-то другому.
— Ты злишься на меня, потому что я слишком молода, и тебя это раздражает, да?
— Лора, уйдем, тут японцы, они сейчас вытащат свои фотоаппараты, они всегда это делают при землетрясении… Жан, я сожалею…
— Я тоже, господин Ренье. Но что вы хотите, тут ничего не поделаешь. Шекспир сказал: «Надо смириться».
Лора вытерла нос.
— Неужели Шекспир так сказал?
— Не знаю, мадемуазель, но у нас один из лучших отелей Европы, так что это обязывает!
Она немного укрылась в моих объятиях. Я уже не чувствовал на своей груди биения пойманной птицы. Я не осмеливался отодвинуться, чтобы не показалось, будто я отдаляюсь от нее. Ее взгляд искал мой, и перед таким смятением любой юмор становится ни на что не годным, и — никакой помощи.
— Ты не ответил мне, Жак. Что случилось?
— Я тону.
— Из-за меня?
— Да нет, что ты, не говори глупости… Рушится все, что я построил в своей жизни… не знаю даже, смогу ли я в следующем месяце расплатиться по счетам…
— Но я думала, ты собираешься все продать и…
— Ну, это не так просто… И потом, чего там, я ведь такой же, как и все, надеюсь, что все наладится… Немного упорства, немного воображения… В конце концов, именно это нам не устает повторять правительство…
Давай, думал я. Жульничай. Лги до конца. Впрочем, для вранья правда годится лучше всего.
— Этот чертов кризис случился в самый неподходящий момент, когда и так уже дыхания не хватало… Валится со всех сторон… Я знаю, что я не единственный, знаю… Это изменение в равновесии мира. Но от этого не легче. Тяжело отказаться, признать свою зависимость, распрощаться со всей своей историей, со всем, чем ты был… Это как если бы мне пришлось оставить тебя, потому что я тебя недостоин…
— Замолчи! Замолчи!
— Не надо кричать, мы тут не среди бедняков… Жан, ключ, пожалуйста.
— Я вам его уже дал, господин Ренье.
— Мы с Жаном знаем друг друга тридцать лет. Как раз с освобождения Парижа.
— Мы тогда знали друг друга гораздо лучше, мадемуазель, потому что были молоды. С годами доля неизвестного и непонятного в каждом значительно увеличивается…
— Гёте?
— Гёте, месье. Три звездочки.
— Я только пытаюсь объяснить мадемуазель де Суза, что кризис взял меня за горло, но я отказываюсь признать себя побежденным. И не называй меня месье.
— Хорошо, полковник. С арабами уже пробовали?
Я пристально на него посмотрел:
— Что это значит?
— Уже пытались наладить контакты с арабами?
— И зачем мне, по-твоему…
— У них сейчас есть средства.
— Нет, по мне, скорее уж немцы или американцы… Но я пока пытаюсь держаться. Да и конъюнктура, может, изменится. На три миллиарда с лишним поставок в Иран. Может, они купят моих Рабле и Монтеня. Старушка Европа немного выдохлась, но духовность с нами, Жан. Сырья у нас нет, но если и остались еще неисчерпанные ресурсы, то это наше духовное влияние…
Я протянул ключ Лоре:
— Ты переоденешься? Мы идем к Вилельмам. Я подожду тебя здесь.
— Я хочу поговорить с тобой, Жак. Не здесь. Я хочу поговорить с тобой по-настоящему.
В лифте были люди.
Долгое молчание в коридоре.
Снова букеты цветов в гостиной.
— Я знаю, что у тебя что-то не ладится.
— У меня должно все ладиться, когда я с тобой.
Она упала в кресло.
— Ты слишком хорошо говоришь, Жак. Это твоя манера отстраняться.
Белые розы позади нее. Ухоженная и холодная лебединая белизна. Они называются «Королева Кристина». Кристина — королева Швеции, конечно. Только почему?