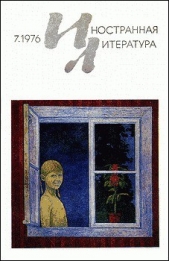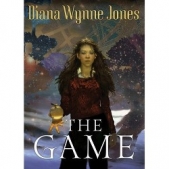Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10 1/ 2главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. В книге «Нечего бояться» он размышляет о страхе смерти и о том, что для многих предопределяет отношение к смерти, — о вере. Как всегда, размышления Барнса охватывают широкий культурный контекст, в котором истории из жизни великих, но ушедших — Монтеня и Флобера, Стендаля и братьев Гонкур, Шостаковича и Россини — перемежаются с автобиографическими наблюдениями.
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В моей загородной юности у радиоприемника появился соперник: огромный телевизор, купленный б/у на аукционе. Весь в ореховом дереве, с двойными створками во всю длину, скрывающими его назначение, он был размером с гардероб карлика и сжирал очень много мебельной полировки. На нем лежала семейная Библия, такая же несуразно огромная и обманчивая, поскольку это была семейная Библия чужой семьи, с их, а не нашим древом на форзаце. Ее тоже купили на аукционе и открывали, только когда папа весело сверялся с ней для решения кроссворда.
Стулья теперь были расставлены иначе, но ритуал оставался неизменным. Трубка раскуривалась, а шитье откладывалось в сторону, или, возможно, маникюрный набор: пилочка для ногтей, жидкость для снятия лака, шелк для ногтей, основа, покрытие.
Запах грушевых драже иногда возвращает меня к авиамоделированию, но чаще — к маминому маникюру. В особенности к одному символичному эпизоду из моей юности. Мы с родителями смотрели интервью с Джоном Гилгудом или, скорее, смотрели, как он беззаботно превращает любой вопрос собеседника в трамплин для пространных баек, пышущих самоиронией. Родители любили театр от самодеятельности до Уэст-Энда и, конечно же, видели божественного Гилгуда уже несколько раз. На протяжении полувека его голос был одним из прекраснейших инструментов лондонской сцены: голос не грубой силы, но изысканной изменчивости, каким моя мать могла бы восторгаться не только как зритель. И вот пока Гилгуд излагал одно из своих изощренных и немного дурашливых воспоминаний, я обратил внимание на тихий, но настойчивый шум, как будто папа втихаря пытался зажечь спичку, но никак не мог это сделать. Скрипучие чирканья следовали одно за другим, звуковое граффити царапало голос Гилгуда. Это, разумеется, моя мать опиливала ногти.
Гардероб карлика был интересней, чем радиоприемник, потому что в нем были вестерны-сериалы: в первую очередь «Одинокий рейнджер», но также и «Истории “Уэллс-Фарго”» с Дейл Робертсон. Родители отдавали предпочтение взрослым дракам вроде шестисерийного «Маршал Монтгомери командует сражением», где генерал объяснял, как он гнал немцев из Северной Африки по всей Европе до их капитуляции на Люнебургской пустоши, или где, как это недавно вспоминал мой брат, «маленький жуткий Монти выделывается по черно-белому». Была еще передача «Мозговой трест», такая аспирантская — то есть еще более идиотская — версия «Любых вопросов», также с А. Дж. Айером. Более дружно семья смотрела программы про природу: Арманд и Микаэла Денис с их задорным бельгийским акцентом и куртками для пустыни, состоявшими из одних карманов, капитан Кусто с его лягушачьей лапкой, Дэвид Аттенборо, пыхтящий в зарослях. В те времена зрителям приходилось многое домысливать, поскольку монохромные твари передвигались, пользуясь маскировкой, по монохромным джунглям, саванне или морскому дну. Теперь-то мы шикуем, избалованные цветом и крупными планами, наблюдая с позиции Бога всю сложность и красоту избавленной от Бога Вселенной.
Последнее время в моде императорские пингвины, кино- и телеголоса за кадром убеждают нас в антропоморфизме. Как же не умиляться беспомощности, с которой они ходят на двух ногах? Смотрите, как они любовно устраиваются друг у друга на груди, крутят драгоценное яйцо между родительских ног, разделяются в совместных поисках еды, так же как мы в супермаркете. Смотрите, как вся группа сбивается вместе, противостоя снежной буре и демонстрируя социальный альтруизм. Разве эти лелеющие яйцо, распределяющие обязанности, совместно воспитывающие потомство, сезонно моногамные императоры Антарктики странным образом не напоминают нас? Возможно; но ровно настолько, насколько мы нестранным образом напоминаем их. Мы так же, как они, можем сойти за тварей Божьих притом, что все дело в кнуте и прянике неумолимых потребностей эволюции.
А раз это так, что — опять-таки — нам делать с предположением, будто восхищение природной, но пустой Вселенной служит полной заменой восхищения трудами воображаемого друга, которого мы сами себе создали? Когда как вид мы пришли к эволюционному самосознанию, мы уже не можем обратно стать пингвинами или кем-либо еще. Раньше восхищение выражалось благодарственным лепетом про щедрость Создателя или перистальтическим ужасом от Его невероятной способности наводить страх и трепет. Теперь, в одиночестве, нам предстоит понять, для чего может служить наше безбожное восхищение. Оно не может остаться самим собой, только более чистым и беспримесным. У него должна быть какая-то функция, какая-то биологическая польза, практическая спасающая или продлевающая жизнь цель. Возможно, оно для того, чтобы помочь нам найти новое место обитания, когда мы уже непоправимо загадим нашу планету. Но все равно, как может редуктивизм не упрощать?
Вопрос и парадокс. Наша история представляет собой последовательный, пусть и неровный рост индивидуализма: от животных стад, от рабского общества, от полчищ неграмотных крестьян, которыми помыкали король и священник, к менее определенным группам, где у индивида больше прав и свобод — право на стремление к счастью, частные мысли, самореализацию, на потакание своим слабостям. Но теперь, когда мы сбросили иго короля и священника, когда наука помогает нам вернее понять условия, на которых мы живем, когда наш индивидуализм выражается все вульгарней и эгоистичней (а для чего еще нужна свобода?), мы обнаруживаем, что эта индивидуальность, или иллюзия индивидуальности, не то, что мы себе представляли. Мы обнаруживаем, к удивлению, что мы, как замечательно сформулировал Докинз, «машины для выживания — роботы, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных как гены». Парадокс в том, что индивидуализм — триумф вольнодумных художников и ученых — привел нас к осознанию, что мы можем считать себя винтиками в генетической иерархии. Мои юношеские представления о строительстве собственной личности — эта неуловимая, очень английская, экзистенциально самолюбивая мечта о независимости — были страшно далеки от истины. Я думал, тягостное взросление приводит к тому, что человек наконец оказывается сам себе господин: homo erectusв полный рост, sapiensво всей свой разумности — парень с хлыстом, щелкающим им, как ему заблагорассудится. Эту картинку (а я немного подпустил картинности — такие мысли и образы всегда носили временный и необязательный характер) должно теперь заменить понимание, что не только мне не пощелкать хлыстом, но я сам расположился на его кончике, а щелкает мной длинная и неотвратимая цепочка генетического материала, с которым никак не поспоришь. Мою «индивидуальность» по-прежнему можно почувствовать и доказать генетически, однако она, возможно, оказалась полностью противоположной моим тогдашним представлениям о ней.
Это парадокс, а вот вопрос. Мы взрослеем, мы меняем старое восхищение на новое — восхищение процессом, который вслепую, наудачу привел к нашему возникновению; нас это не угнетает, как кого-то, а «приводит в восторг», как Докинза; мы получаем удовольствие от того, что Докинз перечисляет среди смыслов жизни: музыки, поэзии, секса, любви (и науки), — возможно, попутно упражняясь в шутливой обреченности, приверженцем которой был Сомерсет Моэм. Мы проделываем все это, но помогает ли это нам умирать? Умрете ли вы, я, Ричард Докинз лучше, чем наши генетические предки сотни и тысячи лет назад? Докинз выразил надежду: «Когда я буду умирать, я хотел бы, чтобы жизнь удалили у меня под общим наркозом, ровно как воспаленный аппендикс». Достаточно недвусмысленно, хотя и незаконно; но смерть обладает привычкой строптиво отказывать нам в решениях, которые мы себе придумали.
С медицинской точки зрения — и в зависимости от того, где на планете мы проживаем, — мы действительно можем умереть лучше и не так по-собачьи. Вынесем это за скобки. Туда же вынесем все, что мы можем спутать с хорошей смертью: например, отсутствие сожалений или огорчений. Если нам все здесь нравилось, если мы позаботились о тех, кто от нас зависит, и нам мало о чем грустить, тогда не так нестерпимо оглядываться на прожитую жизнь. Но это не то же самое, что смотреть вперед, на то, что непосредственно перед вами: полное исчезновение. Может ли это у нас получаться лучше?