Народный проспект (ЛП)
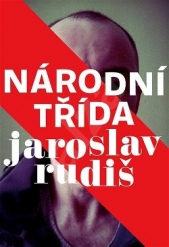
Народный проспект (ЛП) читать книгу онлайн
Меня называют Вандамом.
Живу я тут, на жилмассиве. Того, что тут видишь, когда-то не было. Когда-то здесь был только лес и болота, и волки, и и болота, и лес. Отсюда и комары. В последнее время их становится все больше. Это нужно себе представить. Потому что я иногда просто чувствую, как лес и болота снова все это забирают, как сыреют подвалы, как постепенно просачивается в них вода, как между асфальтом и бетоном снова прут наверх деревья, как они растут кверху и разбивают бетон с асфальтом и разлагают все, что мой старик, а твой дед, вывалили в космос. Потому что это он все тут строил. Он и ему подобные старики вырвали этот массив у леса и природы.
Э-э, не смейся над ними. По крайней мере, что-то они да сделали. Просто попробовали. И здесь много таких, которые радуются, что могут здесь жить. И они даже гордятся этим местом.
Ну, я и сам им горжусь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И она тоже это чувствует.
А потом говорю: "Серьезно, что-то не хочется сегодня рассказывать. В другой раз".
А Сильва выставляет очередные рюмки и говорит: "За хорошее настроение".
А этот другой говорит: "За свободу".
И Морозильник говорит: "Ясное дело, за ноябрьское хорошее настроение".
И кто-то еще говорит: "За ноябрьскую революцию".
А потом мы чокаемся рюмками.
И кто-то там еще говорит: "За Гавела!".
И еще кто-то там еще говорит: "За правду и любовь, которые победили ложь и ненависть!".
А Морозильник говорит: "За Вандама, национального героя с Народного проспекта".
А я ему говорю: "Заткнись!".
И кто-то говорит: "Понятное дело, я тоже там был".
А Морозильник говорит: "Ну, ессно, ты прав, мы ведь все были на Народном, разве нет?".
И кто-то еще там говорит: "А какие лозунги там кричали?".
И Морозильник говорит: "У нас пустые руки!".
А кто-то еще говорит: "У нас кирпич[30] в руке!".
И кто-то еще говорит: "Только народ".
И Морозильник говорит: "Ясное дело, только народ".
И тут все поднимаются с мест и начинают орать:
Только народ!
Только народ!!
Только народ!!!
А потом кто-то вытягивает руку в нацистском "хайль!".
И кто-то ему говорит: "Блин, а вот это у же нет, с этим пиздуй отсюда".
А я говорю: "Блин, это же чешский юмор[31], разве нет? Весь мир обожает чешское пиво и чешский юмор.
Мы были жертвами нацистов и русских, мы имеем право гад всем насмехаться. Мы всегда были жертвами. 1938. 1968. Не слишком бери на ум, это римский жест. Не нацистский. Римский! Это насмешка, или нет? Я – римлянин. Никакой я не нацик. Так почему, блин, в Европе нельзя делать римские жесты? Европа ведь стоит на римских фундаментах.
Я – европеец. А вы – нет?
И Морозильник говорит: "Ясен перец, все мы европейцы".
И вдруг все вытягивают руки: хайль!
Только народ!
Долой черномазых.
Долой студентов.
Долой босоту.
Долой люмпенов.
Долой цыган.
Долой дармоедов.
Долой панкушников.
Долой желтков.
Долой мафиози.
Долой педиков.
Долой боссов.
Долой 1111.
Долой сверхчехов.
Долой наркеш.
Долой болельщиков Славии.
Долой 6666.
Долой болельщиков Спарты.
Долой боссов всех боссов.
Долой свиней наверху.
Долой 1010.
Долой свиней внизу.
Долой всех свиней.
Долой всех, которые пудрят мозги и достают.
Долой всех, кто к нам приебывается.
Долой все, что забирает у нас работу.
Долой иностранцев.
Долой австрияков..
Долой поляков.
Долой немцев.
Долой словаков.
Долой чехов.
Долой! Долой! Долой!
Только народ.
Долой всех баб, которые не желают с нами трахаться.
Долой всех баб, которые не берут в рот.
Долой всех баб.
Все долой!
И все скалятся.
Ясный перец, самое главное – это хорошенько постебаться, или нет?
Чехия для чехов.
Брно для брнов.
Чешский юмор.
Чешское пиво.
Ведь мы же никогда и никому.
Весь мир состоит из херни.
Но тут неожиданно все эти смешки мне осточертели, и я говорю: "Хватит, понятно? Или вы хотите меня достать?".
Но я же знаю, что Морозильник совсем не хочет меня доставать, что это дружбан и вообще классный мужик. Он же прекрасно знает, где я был во время бархатной революции, потому что я и вправду стоял на Народном проспекте. Это я там их пиздил.
Я был на самой передовой. Это я нанес первый удар. Это я все начал. Кто-то ведь должен был это сделать.
Нет, никакой медали я себе не хочу.
Не хочу я никаких дурацких отличий.
Я только лишь хочу сказать, что в самом начале может быть только один. Один единственный. И что этим одним-единственным тогда был я.
Снова иду отлить. Мельком гляжу на улицу. Мужика из Моравии уже нет. Наверняка подался в свои Хрлицы под Брно. Мне кажется, что на штукатурке возле двери остался след кров, но, возможно, это всего лишь тех придурков, что малюют граффити, которым тоже следовало бы преподать небольшой урок по жизни.
И я медленно делаю вдох и втягиваю в легкие шмат зимы и массива, и мне кажется, будто бы чувствую и запах леса. Гляжу в небо. Оно меня всегда успокаивает.
Делаю глубокий вдох.
Окна вселенной распахнуты настежь.
А потом возвращаюсь вовнутрь.
Отливаю и снова опираюсь лбом о холодную кафельную плитку.
А потом уже ночь, и из леса надвигается туман, проглатывая улицы, машины и целые дома.
Сильва закрывает "Северянку".
А потом спрашивает: "Идем ко мне или к тебе?".
А я говорю: "Можем и ко мне. Ближе, а оно холодно".
Мы закуриваем. Сильва кашляет.
А потом спрашивает: "Ты серьезно был на Народном?".
А я говорю: "Ну".
А она говорит: "Я тоже там была".
А я говорю: "Где?".
А она говорит: "Ну, там, на Народном".
А я говорю: "В смысле: тогда?".
И Сильва говорит: "Ну, тогда".
А я гляжу на нее, а она глядит на меня.
Шрамы
Вместе они садятся в лифт. Она спрашивает, какой этаж, а он говорит, что на самый верх. Нажимает кнопку. Лифт всегда чуточку проваливается, прежде чем тронуться вверх. Лампа дневного света жужжит и мигает. Они глядят друг на друга. Он напирает на нее своим телом и целует ее. Она позволяет себя целовать. И это именно она где-то на половине высоты ночного подъезда нажимает на кнопку остановки. Лифт покачивается и останавливается.
Он расстегивает ей брюки. Она позволяет расстегнуть себе брюки. Расстегивает брюки ему. Делает ему это рукой. Он ее поворачивает. Напирает на нее сзади. Напирает на нее и прижимает ее к стене лифта. Потом напирает еще сильнее. Лифт трясется.
Она стонет. Кусает его руку. Ему приходит в голову, что она уж слишком быстрая. Нажимает на кнопку, и лифт едет наверх.
Она кончила. Нажимает на кнопку, и лифт снова едет вниз. Она опускается на колени и берет в рот. Теперь уже он нажимает кнопку. Ему приходит в голову, что она хороша, хотя разменяла пятый десяток. А может она хороша именно потому, что уже разменяла пятый десяток. Молодые девицы трахаться не умеют. Ему приходит в голову, что молодые девицы так никогда и не получили урока относительно траха. Лифт едет наверх. Он кончил.
А потом они лежат в кровати, и ему хочется, чтобы она снова взяла в рот. Ей приходит в голову, что все мужики этого хотят. И еще, что все мужики охотнее всего только бы и совали кому-нибудь в рот, если бы только было кому. У нее появляется страшное желание секса как раз в тот момент, когда он кончает. А когда она ему говорит, что она хочет секса, он ей отвечает, что все ясно, через минутку. И ей приходит в голову, что так говорят все мужики, когда уже не могут.
А потом они только лишь лежат рядом друг с другом на кровати. А он на мгновение засыпает. Ей приходит в голову, что все мужики после того на миг засыпают.
Она идет в туалет. Но на унитаз не садится. На полу валяются газеты. На стенке жужжит электросчетчик.
Потом осматривает его небольшую квартиру. В кухне урчит старый русский холодильник. Внутри колбаса, огурцы, пиво и обычная горчица. Она берет кусочек колбасы, макает ее в горчице.
В комнате стоит большой книжный шкаф. Она берет несколько книжек в руки. Войны, сражения, командиры. Швейк и Библия. Сама она уже не может и вспомнить, когда читала какую-либо книгу.
Чтение никогда ее не увлекало, предпочитала ходить в кино и танцевать. Рядом висит старый киношный плакат.
Полуголый Жан-Клод Ван Дамм в боевой позе, с поднятыми вверх кулаками. Ну так, думает она.


























