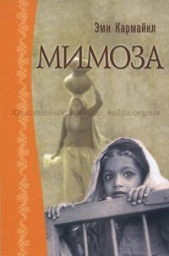Мимоза

Мимоза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну-ка покажи, что этот осел с тобой сотворил?
И тут я вдруг почувствовал, как саднит лицо. В драке я совсем забыл об ударе кнута.
Обеими руками она повернула мое лицо к свету и принялась внимательно изучать его своими чудными, с ярким блеском глазами. Время от времени она что-то возмущенно бормотала. Я опустил голову, доверясь ее пальцам. Пока они ласково, будто легкий ветерок, касались воспаленного рубца, я понял, что в мире не существует лучшего утешения, а в сердце моем звучала и звучала «Колыбельная» Брамса.
Да, не всегда судьба несправедлива ко мне!
Теперь я с очевидностью понял, что чувство этой женщины ко мне много глубже, чем обыкновенная жалость. Душа моя обрела покой. Любовь наделяет человека правами, и безо всяких колебаний я уселся за стол, дожидаясь, пока меня накормят.
Сегодня вся она излучала какой-то особенный свет. Глаза сияли ярче обычного, длинные ресницы трепетали.
За едой я рассказывал ей о событиях этого дня. Из головы не выходило, что она заперла дверь, впервые за двадцать с лишним дней Хай Сиси не сможет войти в дом. И все-таки я опасливо прислушивался — вдруг да зашаркают его подошвы.
А ее вовсе не интересовало, что происходит там, за порогом. Она живо обсуждала сегодняшний день, всячески сочувствуя мне и не скрывала этого; Хай Сиси вызывал у нее резкое осуждение. Явная ее пристрастность обеспокоила меня — это ведь было несправедливо.
— Разве ты с ним не в добрых отношениях? — спросил я.— Мне казалось, он твой близкий друг.
— Ха, друг! — Она покраснела и со злостью буркнула: — Осел этот дуреет с каждым днем! Вот раньше...
Она резко оборвала себя — так шофер нажимает на тормоз, а вас по инерции еще влечет вперед Потом она уселась на лежанку и замерла в молчании, только руки ее проворно латали одежду.
Я понял свой промах: слово «друг» значило для нее вовсе не то, что для меня, она воспринимала его в смысле «сердечный друг», как пелось в той ее песне:
Интуиция меня не обманула.
Немного помолчав, она подняла голову. Румянец на щеках поблек, но глаза по-прежнему блестели. Она легко рассмеялась и выпалила:
— А ты стал совсем свой!
Я понял, что она хотела сказать, и улыбнулся. Сколько смысла в этом «свой»! Как же это важно, что я стал своим для крестьян — потомков давних переселенцев из Средней Азии. После этих ее слов я понял, почему именно сегодня она с такой очевидностью проявила свое чувство ко мне. Что для нее какой-то там «книжник», «ученый», способный разве что пересказать несколько ветхих сказок, — в лучшем случае он может пробудить жалость и сочувствие. А вот мужчина, не гнушающийся любой работы, умеющий ответить ударом на удар, защитить свою независимость, достоин ее любви. Так вели себя потомки выходцев из Самарканда, и теперь я был среди них своим!
Она сказала, что пока не нашла подходящих черных пуговиц для моей куртки — в те годы даже пуговиц не хватало. Но завтра непременно отыщет и пришьет. Потом достала из-под подушки пояс, сплетенный из лоскутов, и велела мне подпоясаться.
— А то у тебя и куска веревки нет, я знаю,— улыбнулась она.
У меня и правда нечем было полы куртки подвязать.
— Ты многое обо мне знаешь, — теперь, когда я понял, что она любит меня, мне больше не приходилось стыдиться своей нищеты. И спросил с деланной небрежностью: — А я почти ничего о тебе не знаю. Вот скажи, кто отец Эршэ?
Она опустила голову и молчала, слегка улыбаясь. Потом вдруг расхохоталась:
— Ох, нельзя мне с мужчинами, в момент тяжелею...
Эти слова ошеломили меня, но ведь она не ответила. Я надеялся, что мне поведают историю — печальную, может быть, и трагическую, а вместо этого она стремилась весело и непринужденно предать забвению все, что связывало ее с прошлым. Судя по ее тону, она полагала, что слова ее никого не огорчили — сама она во всяком случае не огорчилась...
Вот судьба! Благодаря Мимозе я вновь сделался нормальным человеком, она возвратила мне память о прошлом и помогла обрести себя сегодняшнего — и все-таки я был сбит с толку, она все время ставила меня в тупик. В ней было столько непонятного, в корне расходящегося с моими прошлыми представлениями о морали и нравственности; впрочем, все это было так искренне и добросердечно, обладало такой несомненной привлекательностью, что мне становилось ясно: она превзошла мои понятия о нравственности, она права и она безупречна.
Мимоза и Хай Сиси, сами того не желая, привили мне дикость и необузданность обитателей степных просторов. Сейчас, когда я сделался «как все», я с особенной остротой ощутил, сколь могучим было их влияние на меня.
Впервые в жизни я почувствовал радость, которую испытывает человек могучего здоровья. Силы мои казались поистине безграничными. Не об этом ли писал Уитмен:
О, радость борца — силача, что, как башня, стоит на ринге,
вполне подготовленный к бою, в гордом сознании силы, и
жаждет схватиться с противником! [18]
И мне пришлось состязаться с местным силачом и лучшим работником, его все боялись, а я, хотя и не одолел его, но и не проиграл — ничья! Я чувствовал, как становлюсь все сильнее, как крепнет мое мужество, оно буквально трубило во мне, как трубит, давая о себе знать, морской лайнер...
На следующий день Хай Сиси опять управлялся в одиночку. А я ездил с Дохлой Собакой. Когда наши повозки встречались, он даже не смотрел на меня, но его унылый вид бросался в глаза. Ярость ушла, и он попросту погрузился во мрак собственных переживаний. Этот воинственный гигант, преисполненный жизненной энергией, переменился в один миг, словно тростник, побитый изморозью. Дело не в том, что я ударил его, — был нанесен сильнейший удар по его гордости.
Я сызмальства как-то слабею при виде страданий ближнего. Это именно слабость, а не сочувствие. Сочувствие вызывает прилив деятельной активности, слабость рождает один только страх. Если мне приходится читать о паралитике, я сам несколько дней ощущаю себя парализованным; читаю о слепце и боюсь ослепнуть. Страх за себя побеждает жалость к другому. Опираясь на слабость, крепнет мой инстинкт самосохранения, исчезает тяга к самопожертвованию. Вот и сейчас я вовсе не сочувствую Хай Сиси, а только боюсь лишиться любви, как лишился ее мой соперник.
Когда смена закончилась, я соскочил с повозки Дохлой Собаки. Мимоза стояла возле конюшни, что-то сжимая в руке. «Пуговицы,— догадался я,— она показывает мне пуговицы». Наскоро поужинав, я отправился к ней.
Теперь из нашей восьмерки не работали по крайней мере четверо. Сегодня им надо в контору, завтра — в Чжэннаньпу на почту: то отправить заказное письмо, то получить. А ведь туда-обратно — 60 ли. Со времени нашего приезда сюда мы не читали свежих газет, не слушали радио. Как заметил Начальник, здесь похуже, чем в лагере. Все они думали только об одном: поскорее бы отсюда убраться. Их совершенно не интересовали мои ежевечерние отлучки. Этот «дом» с подстилками из соломы служил им временным пристанищем, и что за дело до соседа-постояльца!
Сегодня у меня особенное настроение, я весь в предвкушении чего-то важного. Нынче вечером... Меня пьянили сладостные видения, которые проплывали передо мной, как закатная дымка над пустынной равниной.
Когда я появился на ее пороге, мое лицо так и светилось, глаза странно сияли. Она взглянула на меня, и ее взор ответно блеснул. В обрамлении длинных ресниц глаза ее с яркими зрачками казались бездонными. Как и вчера, она прилегла на лежанку, баюкая Эршэ. Она гладила ребенка, но глядела на меня чуть улыбаясь и с какой-то затаенной мыслью.
На печке меня дожидалась еда. Я сам взял чашку. Ел я медленно, стараясь смирить волнение и успокоиться. Тут донесся ее голос, она запела: