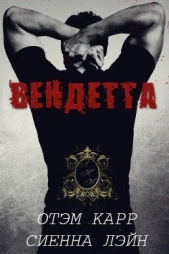Некто Финкельмайер

Некто Финкельмайер читать книгу онлайн
Роман «Некто Финкельмайер» написан в 1975 году. С тех пор он широко распространялся в московском самиздате. Рукопись романа (под условным названием «Пыль на ветру») получила в Париже Литературную премию имени Владимира Даля за 1980 год.
* * *
«Говорят, что, создав своего героя, автор поневоле повторяет выдуманную им судьбу. Так ли это или нет, но однажды будто кто-то подтолкнул меня: я сделал шаг, за которым стояла эта судьба. До сих пор не знаю, что спасло меня тогда. Но я знаю тех — и их много, близких моих друзей, и друзей мне мало знакомых, — кто спасали роман от почти неминуемой гибели. Им я обязан, что роман выходит в свет. Всем им, чьи имена не следует сегодня называть, — моим друзьям в России и за ее пределами я посвящаю его.»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никольского взял к себе в лабораторию один его школьный приятель. Собственно, лаборатория и была-то — это они двое да техник-паренек. Занимались они изготовлением электронных игрушек по типу знаменитых мышей, черепах и скачущих лягушек и старались положительно решить коренной вопрос тогдашнего мировоззрения передовых людей — «может ли машина мыслить?» Так как все трое были уверены, что — может и обладали буквально эдиссоновской одержимостью, они гнались за истиной, обгоняя ее самою, и эта гонка имела тот прекрасный и, пожалуй, единственный результат, что молодые люди стали большими доками в своем деле. В частности, Никольский, помимо прочего взявший на себя роль камнедробилки, которая перемалывала глыбы зарубежных статей в скудный золотой песочек полезной им информации, очень скоро стал легко расправляться с любым научным сленгом, по какую бы сторону Атлантики он ни бытовал. Лабораторию приметили и сделали отделом. Приятель защитился раз, потом другой и оказался молодым блестящим доктором наук. Потом отдел отпочковался и стал сам себе институт, а приятель — сам себе его директором. Директора вместе с институтом обнесли оградой, впустили внутрь вохру и 1-й — секретный — отдел, вохра и секретчики стали служить науке, а наука — служить народу, служить не стихийно, как было везде и всегда, а уже по-настоящему, то есть как надо и как приказывают.
Никольский к этому времени был уже далеко. Когда он потом задумывался, кто из них, последних могикан кустарщины в науке, как они горделиво себя называли, — кто из них оказался в наибольшем выигрыше, то получалось, что парнишка-техник. Приятель Никольского был не в счет, так как должности, огромные оклады и солидные титулы сожрали и его самого и его жену — когда-то весьма симпатичную молодую особу, которая в те свои симпатичные времена пребывала еще в женах у Никольского и которая не то его бросила ради приятеля, не то он, Леонид, бросил ее приятелю, — это так и осталось неясным. Короче говоря, приятелю во всех смыслах достался худший вариант. Парнишка-техник, когда все вдруг сдвинулось к бурному росту и почкованию, за свои восемьсот рублей, по его же словам, нахлебался науки по горло. Его прежний коллега по пайке бесчисленных схем, товарищ по спирту и друг по совместной квартире для баб, а отныне всего лишь начальник, сказал ему так, что желаешь того — не желаешь, но надо учиться, идти в институт — на заочный, вечерний, как хочешь, а то, брат, придется из техников — в лаборанты, и это уж не восемьсот, а семьсот пятьдесят… Но на кой ему было это ученье? Чтоб, промучившись пять лет, получить инженерские тысячу двести? Он сказал «до свидания» науке, сел в такси и катает на нем по сей день, не изменив своей нелегкой, но такой почетной шоферской профессии даже после армии. Когда Никольский по старой памяти звонит ему и просит подвезти в аэропорт, тот, сидя за баранкой, любит повторять: «Работа — хорошо, деньги — лучше, а чтобы на работе при деньгах да без начальства — это, Леня, у нас, у романтиков, и называется счастьем трудных дорог». Не будучи романтиком в той мере, в какой это было свойственно дружку-таксисту, Никольский, тем не менее, работу, деньги и начальство помещал примерно в такой же ряд рассуждений.
И вот, в то самое время, когда Никольский пытался все эти три взаимосвязанных компонента сбалансировать возможно более оптимальным образом, он внезапно позарез понадобился государству и как раз на такую работу, где еще платили много денег и где еще было немного начальства, а то начальство, которое и было, старалось не соваться в новые для себя дела, в коих, естественно, ничего не смыслило. Никольский впервые ощутил тогда редкое, захватывающее чувство полного слияния личных и общественных интересов, чувство столь возвышенное и всеобъемлющее, что говорить о нем только как о результате материального стимулирования и создания нормальных условий для творческого труда было бы грубым упрощенчеством, вульгаризацией и злопыхательством.
Понадобился Никольский государству по той простой причине, что решило оно завести себе патентную службу. Почему-то вдруг обнаружилось, что муторное это, кляузное и, в целом-то, не наше, а ихнее заграничное и буржуазное дело так же надежно, выгодно и удобно, как всем известная сберкасса. Но как подступиться к этому делу, почти никто не знал. Никольский был одним из тех, кто знал. Различных западных патентных формул он изучил превеликое множество, знаком был с системами патентования основных промышленных стран, — словом, впору было поутру ехать к новому двору.
Так он и стал патентоведом, экспертом, консультантом и прочая и прочая — вплоть до научного редактора и переводчика всяких серьезных трудов в своей сфере. Работа устраивала его все по тем же причинам. Он мало от кого теперь зависел, свободно располагал своим временем и, приходя на службу, в любой момент имел возможность уединиться в небольшой отдельной комнатушке. Высшее руководство относилось к Никольскому с уважением, если не с почитанием, так как только и могло предлагать своему экстраординарному подчиненному работу и выслушивать, согласен ли он ее взять и на какой срок. Никто не зависел и от самого Никольского, а это счастье тоже не валяется. Что касается денег, то при своей известности и эрудиции он мог немало зарабатывать и на стороне, но за левой работой слишком не гнался: на хлеб со сливочным маслом хватало, а дети дома не плакали…
Работа случалась разная — и интересная и не слишком. Сюда, в городок, на этот зеленый почтовый ящик, забросило его в связи с довольно путаным делом, в котором долго разбирались до него, но толком не разобрались. Его попросили помочь, били челом, дескать, только на вас и надежда. Отказаться было неловко, тем более что речь шла о тяжбе с солидной американской фирмой, объявившей протест на наше изделие: то есть, что ни говори, дело, опять-таки, государственное… Сидя теперь перед грудой технических описаний и чертежей, Никольский уже представлял, что придется ему тут пробыть не день и не два, что потом и в Москве предстоит немало возни, так как этот зеленый почтовый — лишь один поставщик на изделие, а протест заявили по нескольким пунктам сразу.
День быстро клонился к концу. Работалось плохо, да он пока лишь прикидывал что к чему, не вникая особенно. Было у него то знакомое состояние, когда ему становилось безудержно жаль себя. Правда, он точно знал, что такое случалось с ним именно после пьянки. Но обычно Никольский боялся давать себе волю, старался поменьше раздумывать над жизненным горем-злосчастием во всех его вариантах. Сегодня же на него нашло, и, конечно, причина была не в одной только выпитой водке. Причина была в Финкельмайере. Это его ночной монолог замутил Никольскому душу, и он, черт возьми, отпустил тормоза. Или нажал на гашетку. Начал крутить боевик «Жизнь и падение Леонида Никольского». Патология, секс и ужасы из киноленты вырезаны в соответствии с моралью нашего проката, фильм годится даже детям… Все умещается в одной серии, полтора часа, на дневные сеансы билет только десять копеек, поскольку хроника, а не художественный фильм. У Финкельмайера — иначе. Поэтический кинематограф. Поэт он и есть поэт. Ему и карты в руки. Айон Неприген! Это надо же, что за нелепость!
Он подумал, что Финкельмайер, наверно, давно возвратился в гостиницу и ждет его там.
Аарон-Хаим Менделевич Финкельмайер лежал на кушетке и безмятежно спал. Во сне он чему-то удивлялся: его брови были приподняты, губы стянуты к середине рта и круглились, как будто он вот-вот собирался произнести изумленное «О!» Рядом на столе стояла вчерашняя початая бутылка. Донышко ее прижимало лист писчей бумаги с размашистой корявой надписью: «И зачем я тебе понадобился? Если пить — разбуди».
Арон явно избег соблазна приложиться к бутылочке, не дожидаясь Никольского, и это было трогательно. Никольский, тормоша Финкельмайера, так и сказал — мол, тронут твоей беспримерной стойкостью, но если сейчас не проснешься, — пеняй на себя.
— Ну вот что, я сразу к делу, — провозгласил Никольский, когда они уже сели за стол и после первого «будь!» приступили к бутербродам. — Я все к тому же. Очень уж интересует меня поэт Айон Неприген.