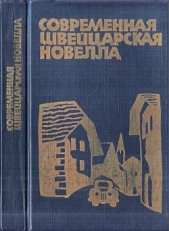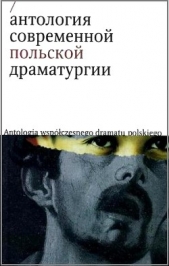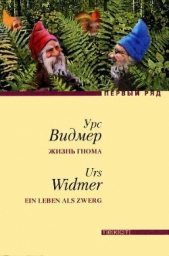Якоб решает любить

Якоб решает любить читать книгу онлайн
Российский читатель открывает для себя новое имя — Каталин Дориан Флореску. Прекрасный рассказчик, умеющий подмечать мельчайшие детали, передавать эмоции в полутонах, отслеживать все движения души персонажей. «Якоб решает любить» — первая книга Флореску, изданная на русском языке и пятая из им написанных. Именно этот роман в 2011 году был удостоен престижной литературной премии The Swiss Book Prize и, по словам Михаила Шишкина, «катапультировал своего автора в первые ряды современной европейской литературы».
Сага «Якоб решает любить» полифонична и многокрасочна, она охватывает события XVIII–XX веков, и ни одного дня герои не прожили без противостояния — силам природы, жизненным обстоятельствам, историческим катаклизмам. И тем не менее это книга о любви — любви в исконном, библейском смысле, о том, что способность простить и отпустить — дар, которого не многие достойны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На этот раз с нескольких машин, остановившихся у церкви, спрыгнули низкорослые, коренастые солдаты с монгольскими лицами, остальные фургоны были пусты, если не считать шоферов в кабинах. Офицер в сопровождении румынского переводчика направился прямиком к дому священника рядом с церковью. Они застали его за ужином.
— Прикажите бить в набат! — скомандовал офицер.
— С какой это стати? Ведь нет ни бури, ни пожара.
— С такой, что иначе я вас расстреляю.
Тут как раз подоспел комендант замка, и отец Шульц послал его на колокольню. Офицер вытащил из планшета списки и сунул их под нос священнику.
— Мы разыскиваем всех немцев в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, они подлежат депортации в Сибирь. Сейчас вы пойдете с нами и покажете, где они живут.
Отец Шульц пошатнулся и оперся на край стола.
— Почему именно я?
— Потому что вы здесь всех знаете. Скажете им, что разрешается взять ровно столько вещей, сколько они смогут нести. Пойманных на улице будем расстреливать. Вас они послушают.
Священник, наверное, думал, что предательство сербской семьи и так уже затянуло его в болото вины с головой, но теперь понял, что ошибался. Всегда можно погрузиться еще глубже.
— Я не могу этого сделать.
Офицер вынул из кобуры пистолет и приставил к животу священника. Того кинуло в пот.
— У вас нет выбора.
Сначала отец Шульц склонялся к тому, чтобы не повиноваться и принять смерть как Божью кару за пособничество в убийстве сербов. Но священник не был героем.
— Скажите, я тоже в списке? — тихо спросил он.
Прошло несколько секунд, пока ему перевели ответ офицера. Они тянулись бесконечно долго.
— Вы слишком стары для того, что ожидает остальных. А теперь пойдемте, нас ждет работа.
Выйдя на улицу, трое мужчин увидели, что перед церковью начали собираться люди, кутаясь в пальто и поглубже натягивая шапки. Продрогшие солдаты бросали окурки и втаптывали их в снег.
Офицер подтолкнул священника вперед, переводчик что-то прошептал ему на ухо, потом священнику помогли подняться на грузовик.
— Люди, расходитесь по домам и ждите нас. С этой минуты никому не выходить из дому. Кого застанут на улице — расстреляют. Молитесь и положитесь на волю Господа. Он все уладит! — крикнул Шульц толпе.
К тому времени, когда русские добрались до нашей улицы и начали распахивать ворота и двери ногами и прикладами винтовок, в стойло, где мы с дедом кормили лошадей, зашел Сарело. Он принес узелок.
— Тебе нужно сейчас же уходить. Тебя ищут русские. Мать говорит, чтобы ты спрятался там, где обычно. Здесь немного хлеба и сыра.
Дед снял шапку и надел ее мне на голову.
— Беги туда, где всегда прячешься, — сказал он.
— Потом мы заберем тебя, когда все успокоится. Где тебя найти? — спросил Сарело.
— На кладбище. В склепе Дамасов, — ответил я.
Он погасил керосиновую лампу и открыл маленькую дверцу в задней стене стойла. Из соседнего двора доносились голоса, русские все время покрикивали «Dawai! Dawai!», а немецкие — умоляли и кричали, но все было тщетно. Так звучал хор отчаяния. Лишь деревенские собаки заливались лаем, только они оказывали яростное, но бесполезное сопротивление. Потом я услышал, как мать зовет деда, и ругательства отца.
Я сунул узелок под мышку, поднял воротник куртки и в последний раз взглянул на деда. Он кивнул мне — на прощание или показывая, что мне и правда пора уходить. Через узкий проем я протиснулся на волю, не зная еще, что в это мгновение я навсегда распрощался с детством и привычным мне миром.
Пригнувшись и прислушиваясь каждые несколько шагов, я пробирался задами под покровом темноты и видел, как соседей и моих друзей загоняют в фургоны. Некоторые, хоть и не малолетки, цеплялись за своих матерей, и солдатам приходилось их оттаскивать. Другие шли молча, понимая, что уже ничего не сделаешь. Там же стоял и наш священник, беспомощный и растерянный, наверное, он пытался призвать на помощь Того, кто уже слишком долго не появлялся. Наконец я добрался до мертвых.
Стараясь отвлечься от неприятностей, которые обрушивались на меня регулярно, как по часам, — от отцовского гнева, способного вспыхнуть из-за любой мелочи, — я привык в своем убежище предаваться фантазиям. Так же я поступил и в тот день, когда меня искали русские. Я зажег одну из свечей, что припас в склепе вместе с коробком спичек, но сквозняк задул ее. После нескольких попыток огонек разгорелся, я прислонился к стенке и стал слушать свист ветра, который несся над землей и хлестал людей без разбору.
Каждый раз, когда меня спрашивали о моем рождении, я просил уточнить, о каком именно. Ведь я родился дважды. Первое рождение было подкреплено властью, которую имел надо мной мой дед. Властью, которую ему никогда не приходилось доказывать, но она всегда действовала, хотя дед уже давно капитулировал перед отцом.
В тот день осенью 1926-го он проснулся очень рано. Выгнал коров, свиней и лошадей на поле позади двора и завез в стойло телегу. Как и накануне, он погрузил на нее весь навоз, потом впряг двух лошадей и обмотал им глаза и ноздри тряпками от мух и слепней.
Насекомые донимали и деда, время от времени он бросал лопату и пытался отогнать их от лица и одежды. К запаху навоза и к труду он привык с детства, в его жизни уже не оставалось такого дела, какое он не делал бы прежде сотни раз.
Деду пришлось работать одному, потому что отец уехал в город и ждал там опаздывающее судно из Вены, груженное сельскохозяйственными машинами, которые он заказал полгода назад. В тот год венгерские батраки не явились, а румынских уже отпустили, поскольку основная работа в поле была закончена. Оставалось только унавозить землю под озимую пшеницу, а потом уж мог и снег выпасть, может, даже в ноябре.
Дед вернулся в дом и разбудил дочь. Пока она готовила завтрак, он принес воды из колодца и помылся на кухне рядом с плитой. Потом вымылась и Эльза, медленно водя губкой по круглому животу. До родов оставалось еще два месяца. На горизонте занималось утро, сначала показался лишь слабый отблеск света, узкая полоска, но с каждой минутой она становилась все шире.
— Ты уверена, что хочешь пойти со мной? — спросил дед. — Тебе не тяжеловато будет?
— Тебе же нужен кто-то, чтобы присмотреть за лошадьми. И потом, что мне тут делать одной?
Они быстро пошли рядом с телегой, дед крепко держал под уздцы лошадей с завязанными глазами. Иногда он шептал им команды, будто разговаривая сам с собой. Кони привыкли ходить вслепую и обычно верили хозяину на слово. Это были умные, терпеливые животные, но в то утро их мучили назойливые мухи, потому они нервничали, и деду даже приходилось браться за плеть.
Мать часто останавливалась, запыхавшись, и дед ждал ее. Она упирала руки в поясницу и выпрямлялась, потом нежно гладила живот.
— Не надо было тебя с собой брать. Так я ничего не успею.
— Успокойся, отец. Ты же видишь, какие они беспокойные сегодня. Кто-то должен остаться с ними, пока ты будешь раскидывать навоз.
Когда они пришли на поле, начал накрапывать дождик, легкая морось все усиливалась. Дед опустил руку в землю так деликатно, будто это живое существо и он боится навредить ему или причинить боль. Он взял комок земли и растер его о щеку. Для полной уверенности сделал это еще раз. Он действовал так сосредоточенно, словно от этого зависело все его счастье. Дочь осмелилась заговорить с ним, лишь когда он вернулся к телеге и подогнал ее задом к краю пашни.
— Могу поспорить, маму ты не так нежно трогал, — сказала она с улыбкой.
— Она к такому и непривычная была. Вы, бабы, — народ, конечно, особый, но земля еще особеннее.
— Это как же?
— Женщина ребенка вскармливает, а земля — всех нас. Если мне что и нравится в твоем муже — а такого немного, — так это то, что он уважает землю так же, как я.
— И что тебе говорит земля? Она готова?
— Да, температура подходящая. Скоро сготовится. Еще разок унавозить, и на следующей неделе можно сеять озимую.