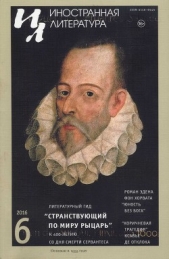Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Упомянутая здесь глава романа «Перрудья» опубликована по-русски (Циркуль — см. в списке сокращений).
73
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 125.</b>Внутри нас действуют многие, кого мы даже не знаем: не только наши предки, но и цели Мироздания, принявшие человеческий облик, разгуливают с нами рядом. На том корабле много кого собралось. О возможных толкованиях этой фразы см.: Свидетельство I, с. 479–488.
74
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 126.</b>Иоас погиб в буре страстей. Все животные, описанные в романе, окружали Янна в реальной жизни. Только таксу Янн — в романе — поменял на символического черного пуделя, спутника Мефистофеля.
75
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 127.</b>И все-таки они приятные животные: эти вечные жертвы, мыши. 24 мая 1946 года Янн писал Вернеру Хелвигу и его жене Ивонне (Briefe II, S. 355):
Против мышиных шорохов нет никакого средства, и мне тоже мыши порой мешали; но я с ними разобрался. Я теперь с ними на дружеской ноге. В «Реке» им, вместе с лисами, посвящена особая главка. Они ведь маленькие, очень беззащитные звери, с очень быстро бьющимся сердцем. Дело кончилось тем, что они сидели на моем письменном столе, пока я писал, и наблюдали за мной. Одна мышка долгое время навещала меня через открытое окно. По ночам я порой очень тревожился, когда она шебуршилась в моих бумагах, потому что знал, что она начнет их грызть. Я тогда зажигал свет и разговаривал с ней, убеждая удалиться через окно. Иногда она так и делала, иногда нет.
76
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 130.</b>Нико повредил мне носовую кость. А из-за неудачно положенной железной решетки я чуть не провалился в люк погреба. В автобиографическом тексте «Колбасный палец господина учителя» (1928) Янн писал (Werke und Tagebücher VII, S. 295): «То было время грез, в моем случае особенно глубоко врéзавшихся в сознание, потому что годом раньше один товарищ по играм повредил мне ударом лопаты носовую кость».
О падении в погреб см.: Свидетельство I, с. 802 (коммент. к с. 236). В другой раз Янн рассказывал Мушгу (Gespräche, S. 47):
Потом, когда мне было четырнадцать или пятнадцать, произошло это падение в люк погреба, с его катастрофическими последствиями, из-за которых я забыл все другое. Из-за неудовлетворительных результатов учебы меня оставили на второй год, и я провел год в другом классе, это был для меня год выздоровления. Когда все закончилось, я перешел в высшее реальное училище и для меня началась совсем другая жизнь. Совершенно другой дух царил среди этих учеников, школа утратила для меня катастрофический характер и вообще уже не была так важна, как прежде. Я теперь сделался хорошим учеником.
77
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 131.</b>Иногда, зная, что я один в доме, я прижимал к носу и рту ватный тампон, смоченный хлороформом… Янн рассказывал Мушгу о чуть более позднем времени, когда он учился в высшем реальном училище (Gespräche, S. 47; курсив [4] мой. — Т. Б.):
Я экспериментировал и работал, превышая человеческие силы. Я жил с беспримерной интенсивностью. <…> В этот период высшего реального училища, с шестнадцати до девятнадцати лет, я спал в среднем максимум по пять часов. <…> Я довел отца до того, что он разрешил мне устроить химическую лабораторию, пусть и скромную. <…> Я перешел к сумасшедшим экспериментам над собой. Среди моих химикалий был и хлороформ. Я поставил задачу: выяснить, теряет ли человек под наркозом в первую очередь сознание или — ощущение боли. Я вводил себя в наркотическое состояние, наверное, раз сто; и в таком состоянии наносил себе раны, с определенными временными промежутками. Я установил, что ощущение боли исчезает гораздо раньше; что с определенного момента я могу, не чувствуя боли, наносить себе любые раны; и что, с другой стороны, сознание на последней стадии принимает ритмические формы: в нем появляются ритмизованные фигуры, видения, которые растворяются в числовых процессах, а те, в свою очередь, выливаются в представление о бесконечности. Тот и другой итог, может, и заслуживают научной проверки, но мне они стоили здоровья.
В письме к Хуберту Фихте от 29 августа 1955 года Янн объясняет опыты с хлороформом несколько иначе (Briefe II, S. 854–855; курсив мой. — Т. Б.):
В своих принципах я, непосредственно после начала поры полового созревания, был очень строг. По отношению и к себе, и к другим. Что я при этом грешил против себя, это точно: онанизм невозможно победить тем, что ты вдыхаешь хлороформ. Я должен был бы просто принять это явление как данность. Что произошло — к сожалению — очень поздно. <…> Я начал с христианства, как подлинно верующий человек. И я пережил в себе крушение этой религиозной системы, которая, как понял еще Юстиниан, враждебна по отношению к тварному миру, не принимает во внимание животных — а значит, и то доброе и справедливое животное, что таится внутри человека. Враждебность этой религии ко всему телесному, ее антисексуальная направленность чуть не стоили мне моего тела. И первым из моих позитивных поступков определенно было то, что я повернулся лицом к этому телу — и к телам моих ближайших друзей. В этом корни моего антимилитаризма (если оставить в стороне разумные познания). <…> Когда же я наконец попал в Норвегию, я попытался найти центр тяжести в себе самом. Я начал заниматься поэзией, музыкальной композицией, архитектурой — и наконец… органным строительством. <…> Все, что бы я ни делал, связывалось одно с другим посредством экспансивной фантазии.
78
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 131.</b>Физически я уже был взрослым. Но воспоминания мои оставались целиком и полностью детскими. Я робел и навлекал на себя неприязнь окружающих. Я им давал лживые сведения о себе. Мой дух отличался теперь задиристой резкостью. Я читал и учился. См. в беседах с Мушгом (Gespräche, S. 44):
Когда мне пошел четырнадцатый год, для меня заиграла литература! <…> Я жил в глубокой изоляции, вечно оказывался в неловком положении. Я ведь постоянно как бы бросал вызов товарищам, потому что жил в своей, другой реальности, где ощущал себя могущественным.
79
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 133.</b>Она любила говорить по-французски; но это было патуа в наихудшем виде… Патуá (фр. patois) — лингвистический термин, название местных наречий французского языка; примерно соответствует русскому термину «наречие».
80
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 138.</b>И дам тебе венец жизни! Цитата из Откровения Иоанна Богослова (2, 10).
81
<b>Свидетельство II (наст. изд.), комм. к с. 139.</b>