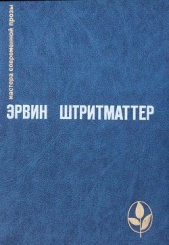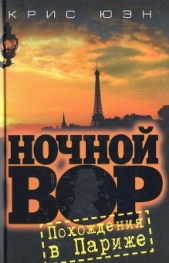Цирк Кристенсена

Цирк Кристенсена читать книгу онлайн
Роман «Цирк Кристенсена» вышел в 2006 году, именно в этот год один из самых известных норвежских писателей Ларс Соби Кристенсен отметил 30-летие своей творческой деятельности. Действие книги начинается в Париже, на книжной ярмарке, куда герой, знаменитый литератор, приезжает, чтобы прочитать лекцию о современном состоянии скандинавской словесности. Но неожиданное происшествие — герой падает со сцены — резко меняет ход повествования, и мы переносимся в Осло 60-х, где прошло его детство. Вместе с тринадцатилетним подростком, нанявшимся посыльным в цветочный магазин, чтобы осуществить свою мечту — купить электрогитару, мы оказываемся в самых разных уголках города, попадаем в весьма необычные ситуации, встречаемся с самыми разными людьми. Мечте не суждено сбыться, но случайное знакомство с загадочной незнакомкой, бывшей воздушной гимнасткой, чью тайну мальчик стремится разгадать, производит переворот в его сознании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Повторяю: о Путте довольно, и более чем.
Когда я катил домой, в очень хорошем настроении, пошел снег. Первую снежинку я заметил на Бюгдёй-алле, она возникла ниоткуда, с высокого чистого неба, я в жизни не видел столь одинокой снежинки, которая порхала среди голых деревьев, и опустилась наземь возле витрины «Музыки и нот» Бруна, и осталась там лежать словно белый медиатор.
В Шиллебекке сугробы вдоль улиц были уже выше мусорных ящиков.
Я поставил велосипед в подвал, среди лыж и деревянных чурбаков, вымыл раму, почистил цепь и втулку, а когда прочищал спицы, в подвал спустился отец. Сперва он молчал. Потом сунул мне ветошь, чтобы вытереть руки. Я так и сделал.
— Каждый год одинаково неожиданно, — сказал отец.
— Что?
— Снег.
— Это верно, — согласился я, бросив ветошь на пол.
— Сколько же всего ты заработал? — спросил он.
— Точно не знаю, — ответил я.
— А надо бы.
Я снял с багажника картонную коробку, топнул по ней ногой, расплющил.
Отец наблюдал за мной.
— Я подумал насчет гитары, — сказал он.
Я повернулся к нему.
— Да?
— И насчет энциклопедии тоже.
Я начал терять терпение.
— Ты к чему клонишь?
— Наверно, лучше купить на эти деньги фотоаппарат.
— Мне совершенно не хочется иметь фотоаппарат.
Отец комкал в руках грязную ветошь.
— Мама наверняка сможет купить с небольшой скидкой.
— У тебя плохо со слухом, а?
Отец недоуменно взглянул на меня, разорвал тряпку напополам и запихнул обрывки в карманы.
— Что ты сказал?
— Ничего.
Я запер велосипед. Здесь он и будет стоять всю зиму, на замке, в подвале.
Отец положил руку мне на плечо.
— А лучше всего просто копить деньги.
По тихой лестнице мы поднялись в квартиру, к маме.
У меня набралось 736 крон 20 эре. Недоставало 1513 крон и 80 эре. Я даже полпути не одолел.
Снег все шел и шел.
Желтый снегоочиститель громыхал каждую ночь.
Настал декабрь, и спрос на цветы был, как никогда, огромный. У меня мелькнула мысль стать на лыжи, но, к счастью, дальше мысли дело не пошло, ведь снежный покров менялся от угла до угла, а мне было вовсе неохота то и дело смазывать лыжи, добираясь от Улаф-Буллс-плас в Санкт-Хансхёуген. Я ходил пешком. Разносил цветы. Носил мрачные венки в Западный крематорий, для большинства умерших в декабре. Ходил с красивыми яркими букетами в женскую клинику на Юсефинес-гате, потому что и детей в декабре рождалось много. Знакомился с новыми адресами и заносил их в нужные места Библии разносчика цветов: Дамстредет, Стенсгатен, Инкогнито-террассе, Грённ-гате, Арбиенс-гате, даже Дункерс-гате там была, я шел следом за снегоочистителем, но однажды мне пришлось искать укрытия за сугробами на Тидеманнс-гате, у Лунна, в «Фотоаппаратах и пленке». Как раз в тот день мама работала. Сидела на стуле в углу, в пальто, выглядела потерянной, и я, воображавший, что здесь она всегда счастлива, как бы застал ее на месте преступления и прямо-таки не сразу узнал, пока она в конце концов не разглядела, что это я, а мне захотелось отвернуться.
— Ну и вид у тебя, — сказала она.
Я стоял вроде как в пруду среди фотокамер, линз, проекторов, футляров и рамок.
В магазине ни звука, кроме голоса мамы.
— Ты одна? — спросил я.
Мама встала.
— Шеф застрял на Карл-Бернер.
Я слегка воспрянул.
— Значит, шеф — это ты, — сказал я.
Мама рассмеялась и стала похожа на себя.
— Об этом я не подумала.
— Ты — шеф, — повторил я.
Мама положила пальто на стул, но перчатки снимать не стала. Этих перчаток я на ней раньше не видел: серые, элегантные, из гладкой, мягкой ткани.
— Только ты и бродишь по улицам в такую погоду, — сказала она.
Снег залепил окно, замкнул нас внутри.
Где-то, кажется в стороне Скарпсну, рычал снегоочиститель.
— Мне надо идти, — сказал я.
Мама положила руку мне на плечо.
— Сперва я заварю чайку. Тебе очень не повредит.
Мама провела меня в соседнюю комнату, в студию. Посредине на треноге стояла камера. Одна стена затянута белой простыней. Наверно, это задник, нейтральный, подходящий в любой ситуации. На полу начерчен крест, вероятно мелом, указывает место, где должен стать клиент, чтобы снимок вышел четкий. У зеркала в углу желающие, преимущественно дамы, как я думал, могли, если надо, подправить макияж и прическу, почистить зубы, подкрасить губы, в тщеславной попытке приукрасить себя для вечности. На столе разложены всевозможные вещи — меч, мяч, шаль, плюшевый медвежонок, зонтик, боа, шляпа, и я тотчас подумал: реквизит, мир полон реквизита.
Чай у мамы был уже готов, в зеленом термосе.
Она подала мне горячую чашку.
— Сфотографировать тебя? — спросила она.
— А ты можешь?
Мама улыбнулась:
— Так я же тут шеф, разве нет?
Я пил сладкий, золотистый чай, который быстро остыл и стал горьким, а мама тем временем готовилась к съемке. Поправила простыню, зажгла лампу, придвинула стул. Вообще-то я бы предпочел не сниматься. Если честно, сниматься мне совсем не хотелось. Точно не знаю почему, но меня охватил безмерный и непостижимый страх. Сердце стучало так, что, наверно, слышно было чуть не на весь Осло-2. Только мама не слышала. Она сегодня оглохла. Но боялся я не самого снимка как такового. Я боялся времени. От уверенности, что все безостановочно уходит в прошлое, у меня тряслись руки, сердце и руки дрожали наперегонки, ведь в этом простом откровении, что все отмерено, что сердцу отпущено определенное число ударов, а рукам — определенное число манипуляций, сквозил хохот смерти, а смерть, как известно, смеется последней. И от мысли, что меня пригвоздят тут к простенькому кресту из крупинок, света и секунд, лучше мне, понятно, не стало.
— Ты же сказала, что вид у меня неважный, — сказал я.
Мама наклонила голову набок, поддразнивая.
— Ты что, стал тщеславным?
Я отвернулся от нее, кивнул на смешной реквизит.
— Во всяком случае, обойдемся без этого барахла. Ладно?
— Ладно.
— Особенно без меча.
Мама подошла ближе, сказала:
— Будь просто самим собой, сынок.
Самим собой?
От этого страх не уменьшился.
— Почему ты не снимаешь перчатки? — спросил я.
Но у мамы не было времени отвечать. Она проверила высоту штатива, а потом велела мне стать на крест между простыней и камерой.
В голове у меня пело:
— Попробуй немножко улыбнуться, — сказала мама.
Я заложил руки за спину.
— Ты счастлива? — спросил я.
Мама выпрямилась, посмотрела на меня, удивленно, почти смущенно, и я тоже был смущен и удивлен. Вопрос сорвался с языка сам собой. Выплюнулся. Я никогда раньше не пользовался этим словом, счастлива, читал его, но никогда не произносил, сейчас я впервые сказал его, счастлива.
— Счастлива? — повторила мама.
Я посмотрел на свои боты, на серые грубошерстные носки, выправленные наверх, и мне очень хотелось, чтобы мама засмеялась, забыла все это или сказала «да», коротко и ясно, поскольку я ждал именно такого ответа, однако она молча стояла возле фотокамеры, и этот ответ, которого она не дала, сам по себе был ответом, причем таким, что хуже и быть не может.
— Не знаю, — в конце концов сказала она.
— Не знаешь?
— Иногда счастлива. Но не все время.
— А когда?
Мама улыбнулась:
— Например, сейчас.
И в тот же миг нажала на спуск.
Потом мы стояли в темной комнате, где мама скопировала негатив увеличителем и осторожно опустила жесткую бумагу в кювету с прозрачной жидкостью, которая расступилась и опять сомкнулась над черными кристаллами, а затем в текучем серебре проступил я, мое лицо, лоб, я возник в искаженном свете, четкий и решительный, мой рот, нос, лоб, глаза, в кадре на дне наконец-то открылся мой взгляд, посмотрел на меня.