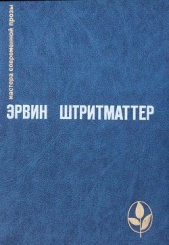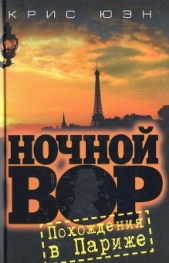Цирк Кристенсена

Цирк Кристенсена читать книгу онлайн
Роман «Цирк Кристенсена» вышел в 2006 году, именно в этот год один из самых известных норвежских писателей Ларс Соби Кристенсен отметил 30-летие своей творческой деятельности. Действие книги начинается в Париже, на книжной ярмарке, куда герой, знаменитый литератор, приезжает, чтобы прочитать лекцию о современном состоянии скандинавской словесности. Но неожиданное происшествие — герой падает со сцены — резко меняет ход повествования, и мы переносимся в Осло 60-х, где прошло его детство. Вместе с тринадцатилетним подростком, нанявшимся посыльным в цветочный магазин, чтобы осуществить свою мечту — купить электрогитару, мы оказываемся в самых разных уголках города, попадаем в весьма необычные ситуации, встречаемся с самыми разными людьми. Мечте не суждено сбыться, но случайное знакомство с загадочной незнакомкой, бывшей воздушной гимнасткой, чью тайну мальчик стремится разгадать, производит переворот в его сознании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все вздыхал и вздыхал:
— Устаю я. Чертовски устаю.
Белье на веревках замерзло почти что в камень — клетчатая рубаха, голубой носок, белая блестящая простыня, что наискось торчала из прищепок, будто земля перевернулась.
— Почему ты вообще так много пьешь? — спросил я.
— Чтобы время шло быстрее.
— И оно идет быстрее, когда ты пьешь?
— Вот этого-то я и не пойму, видишь ли. Боюсь смерти, а пью, чтоб время шло быстрее. Ты можешь это понять?
— Ты прямо как священник говоришь, — сказал я.
Гундерсен ненадолго поднял голову, казалось, он размышлял, хотя заметить это было трудновато.
— Ты знаешь, кто такой Бертольт Брехт? — спросил он.
— Нет.
— Стыдно не знать.
— А ты знаешь, кто такие «Битлз»? — спросил я.
— «Битлз»? Случайно не та шайка, что бесчинствует на Бюгдёй?
Я рассмеялся.
— «Битлз» сочинили «Do you want to know a secret». Самую лучшую песню на свете.
— А Бертольт Брехт сочинил «Замену колеса». Самое страшное стихотворение на свете.
Гундерсен заливался слезами, читая вслух темные страницы воспоминаний. Этому дню явно не было конца-краю. Мне очень-очень хотелось убраться со двора. Никогда — ни раньше, ни позднее — я не любил смотреть, как плачут взрослые люди, в особенности мужчины, позволю себе подчеркнуть. Потому и приведу здесь стихотворение Бертольта Брехта, о котором толковал Гундерсен, «Замену колеса», по сути своей оно чем-то сродни обстфеллеровскому «Гляжу», и в этом смысле я как бы узнавал себя в нетерпеливом человеке на обочине дороги, воочию видел, как он курит сигарету, что одет он в серый костюм и волосы у него гладко зачесаны назад, а пыль от проезжающих по шоссе автомобилей садится на черные ботинки.
Гундерсен утер глаза большущим носовым платком и посмотрел на меня:
— Разве не страшно?
— «Битлз» мне все-таки больше нравятся, — сказал я.
— Ты хоть понимаешь, о чем тут на самом деле идет речь? Я тебе скажу. Что никогда нельзя полагаться на пьяницу.
— Раз ты так говоришь… — только и сказал я.
Гундерен долго и обстоятельно качал головой, потом попробовал встать. Пока что не получалось.
— Но теперь все будет по-другому! — крикнул он.
— Правда?
— Я покажусь всем — и Богу, и людям! Мне больше нечего скрывать! Ты мой свидетель, парень!
— Если тебе больше нечего скрывать, почему ты сидишь тут, а не на тротуаре на улице?
Гундерсен опять уставился в землю.
— Сперва посижу тут посохну, — сказал он. — Запах свежевыстиранного белья хорошо протрезвляет.
Я бы с удовольствием сказал что-нибудь в этой связи, например, что тогда, по всей вероятности, Гундерсену придется сидеть тут до марта следующего года, когда промерзшее белье на веревке оттает. Но в этот миг с черной лестницы донесся жуткий грохот. Это был капитан Том Кёрлинг. Одетый в свой заношенный, когда-то безукоризненный двубортный блейзер, теннисные туфли и галстук-бабочку, похожий на фальшивые усы, которые съехали на мятый воротничок да там и застряли. Иными словами, Том Кёрлинг был точь-в-точь такой, каким мы привыкли его видеть. Ошарашило же нас то, что он волок два полированных камня и зажимал под мышкой облезлую щетку, ведь, если учесть, что одни лишь камни весили как минимум по восемнадцать кило каждый, а Тому Кёрлингу сровнялось девяносто, можно себе представить, какой грохот он производил.
Том Кёрлинг положил камни, закурил сигарету и ткнул щеткой в нашу сторону.
— Что вы, собственно, знаете о кёрлинге?
Гундерсен съежился под замерзшей простыней.
Я шагнул вперед, понимая, что должен сказать правду.
— Не очень много, — сказал я.
— Не очень много? Это сколько же?
— Ничего.
Том Кёрлинг немножко помел щеткой у себя под ногами, подошел ближе.
— Камень должен находиться в движении перед тем, как его пошлют в мишень. А что такое камень в движении? Я тебе скажу. Каждый камень, который двигается, есть камень в движении. Эти камни двигаются?
— Нет, — сказал я.
— А если во время игры камень разбивается, на место самого крупного осколка надо положить новый камень. Какой-нибудь из этих камней разбился?
— Нет, — сказал я.
— Все с самого начала точно и безупречно спланировано. Понятно?
— Да, — сказал я.
— А когда камень опрокидывается, его немедля изымают из игры. Какой-нибудь из этих камней опрокинулся?
Я взглянул на Тома Кёрлинга. На облезлую щетку. На полированные камни.
— Нет, капитан, — сказал я.
Он улыбнулся, но быстро посерьезнел:
— На этих камнях мое имя записано золотыми буквами. И эти камни будут стоять на моей могиле.
Гундерсен вконец заробел.
— О чем это ты толкуешь? — прошептал он.
— Камни в мишени, — сказал Том Кёрлинг. — Наконец-то в мишени.
С этими словами он поволок их к мусорным ящикам и кое-как сумел сбросить внутрь. После чего отправил следом щетку, закрыл крышку и сел рядом с Гундерсеном.
Некоторое время все молчали, и я в том числе.
Том Кёрлинг посмотрел на часы:
— Он скоро подъедет.
Гундерсен кивнул:
— Да. Скоро подъедет.
Морозный ветер гулял по двору на Август-авеню, белье на веревке хрустело, простыня треснула посередке. Холодина. Мы невольно съежились.
Так и закоченеть недолго.
Гундерсен взглянул на Тома Кёрлинга:
— Свистуну-то скажем?
— Ты имеешь в виду Арвида Фло?
— Ну да. Арвида Фло. Ранее известного как Свистун.
Том Кёрлинг — по-настоящему его звали Томас Бергерсен Младший — пожал плечами:
— Он знает, где мы.
Гундерсен согласно кивнул.
Мусорщик приезжал ровно в четыре.
Каждый день. Потому что мусорщик, в кожаном фартуке, в перчатках и тяжелых башмаках, всегда был пунктуален. Минута в минуту приезжал, грех жаловаться. На плече он принес большую пустую бадью, поставил наземь, вытащил полную и отнес к машине. На углу обернулся и засмеялся. Не знаю над чем. Может, бадья была тяжелее обычного, и ему нравилось блеснуть силой.
Гундерсен и Том Кёрлинг встали и пошли за ним. Больше я никогда их не видел. В доме поселились новые люди. В конце концов все мы умираем, и другие селятся в наших комнатах. Кое-что постоянно меняется.
Аврора Штерн сказала: где ставишь палатку, там и центр мира.
Позволю себе на миг прерваться, чтобы рассказать о письме, которое получил не так давно. Это письмо взволновало меня. Большая редкость, чтобы содержание письма приводило меня в такое волнение. Может, я слишком насторожился или слишком льстил себя надеждами и потому был уязвим, с той минуты, как нашел письмо в почтовом ящике, среди счетов и рекламы, а тем самым оказался еще беззащитнее перед этим посланием, просто оттого, что письма — жанр, который почти погиб или в буквальном смысле устарел, а ведь всего несколько лет назад, скажем, лет десять, мой ящик был переполнен письмами, от старых и малых, от дам и господ, с севера и с юга, даже из-за границы, в связи с этим я даже обзавелся специальным ножиком для вскрывания писем, очень изящным, с его помощью можно было одним быстрым взмахом избавить от бремени все эти толстые конверты. Но теперь, как я уже сказал, время писем истекло, эпистолярное терпение и точность, увы, принадлежат другой эпохе. Ведь нужно раздобыть бумагу и конверт, нужно знать имя и адрес, по которому отправить письмо, нужно облизать край конверта и тщательно заклеить, потом надо купить марки, лучше всего на почте, где письмо еще и взвесят, чтобы получателю не пришлось доплачивать, не то отправитель предстанет в весьма неблаговидном свете, ну а под конец — если, конечно, не находишься на почте — нужно найти почтовый ящик, что опять-таки далеко не всегда легко, когда же найдешь, нужно опустить письмо в соответствующий, в красный или в желтый, смотря по тому, куда посылаешь письмо. Иначе говоря, у тех, кто пишет письма, есть время на размышление, есть время передумать, письмо — жанр неаффектированный, в письме запечатлена глубокая любовь или непримиримая ненависть, поскольку эпистолярная фабрика работает медленно. И с ритмом фотографии, пожалуй, тоже происходит или давным-давно произошло нечто подобное? В цифровой-то камере можно сразу, как говорится, в тот же миг увидеть только что отснятый кадр, а значит, уже нет временного разрыва между кадром и нынешней минутой, они спадаются в одно, как сложенный веер, и уже нет необходимости ждать неделями, а то и месяцами, когда пленку проявят и негативы отпечатают на бумаге, так что сюжеты тем временем успеют стать воспоминаниями, может, даже смутными, неясными, на грани забвения, и снова оживут, когда фотографии наконец будут готовы. Временных промежутков более не существует, есть только запаздывания. Точь-в-точь как пишет в «Замене колеса» Бертольт Брехт, любимый поэт покойного Гундерсена. А в запаздывании нет тех возможностей, что присущи временнóму промежутку. Свет в темных комнатах погашен. Эпистолярная фабрика остановлена. Но я, стало быть, не так давно получил письмо. Принес его в гостиную, сел за стол и посмотрел на конверт, коричневый, форматом напоминающий официальные отправления, то бишь уведомления о недоимках, повестки, регистрационные бланки — словом, неприятности. Однако, как я увидел, мое имя и адрес были написаны от руки, слегка старомодным каллиграфическим почерком. Я напрочь забыл, куда задевал разрезной нож — может, выбросил, может, отдал кому-то, — а потому сунул палец под клапан, быстрым движением надорвал край и извлек лист линованной бумаги, исписанный тем же почерком, что и в адресе на конверте. Первым делом заглянул в конец. Подпись незнакомого человека. Женское имя. Но это совершенно обыкновенное норвежское имя ни с кем для меня не соотносилось. Наверно, кто-то попросту хотел спросить, правда ли то, что я пишу, сиречь реальные ли это события, иначе говоря автобиографические. В общем, я начал читать, без особой радости или надежды, начал сверху, где стояло Дорогой, а дальше мое имя и жирный восклицательный знак. Она уже обращается ко мне по имени. Но мне этого вовсе не хотелось. Граница близости, что в языке, что в обращениях и прочих телесных контактах, аннулирована. Мы живем в великую Шенгенскую эпоху. Паспорта нам больше не нужны. Мы можем свободно передвигаться через любого человека. Так уж вышло. Но, продолжив чтение, я, как сказано выше, разволновался. Возможно, стоило бы прибегнуть к другому слову, сказать, например, занервничал, ведь письмо не разозлило меня, не привело в ярость, просто произвело впечатление. Да-да, просто-напросто произвело впечатление. Не стану никого утомлять подробным пересказом письма, ограничусь буквально несколькими словами: эта женщина недавно видела меня на аукционе, и это побудило ее написать мне письмо. Дело в том, что я разбудил в ней воспоминания, напомнил ей обо мне, не о том человеке, который сидел в дальнем конце зала, в целом спокойно, потому что ни картины, ни иные лоты меня не заинтересовали, но о том, каким я был когда-то, когда мы вместе учились в школе, как она утверждала, далекой осенью почти сорок лет назад. Она писала, что заметила меня на переменах. Писала что-то о моих глазах. Писала, что помнит длинный коричневый шарф в голубую полоску, который почти закрывал мне рот и поллица. Писала, что я обычно стоял спиной, возле сетчатой ограды за фонтанчиком. Писала, что вид у меня всегда был какой-то потерянный. Она употребила именно это слово. Потерянный. Писала, что я стоял спиной. Почему она решила написать об этом, почти сорок лет спустя? Думала, что получит памятную медаль в серебре? Почему не подошла ко мне тогда, сорок лет назад? Мне-то помнится другое: все остальные стояли ко мне спиной. А не я спиной к ним. Кто мог настолько ошибиться? В конце она спросила: я уже тогда стоял там и думал обо всем, что напишу? Нет, все ж таки это письмо разозлило меня, привело в ярость, но не спеша, медленно, когда ярость переходит в нечто вроде меланхолии, отмеченной не смирением и приятной сладостью, но решительностью. Я скомкал письмо, вышел из квартиры и бросил его в мусорный ящик, затолкал в самый низ, под картонки, объедки и окурки, пускай там и лежит, про сортировку отходов в такие минуты не думаешь. Среди ночи я, однако, проснулся и сказал себе: это письмо — обман. Я мог быть кем угодно. Ведь в ту пору большинство стояло спиной, верно? А раз я стоял спиной, то как она могла этак вот описать мои глаза? Нет, она меня не обманет. И разве не у всех почти были длинные шарфы, нарочито небрежно обмотанные вокруг шеи, в намерении выглядеть не как все, а в итоге делавшие всех похожими друг на друга? Шарф! Она, кажется, писала, что он был коричневый в голубую полоску? Поневоле я спустился к мусорному ящику и, стоя в одной пижаме на морозе, холоднющей февральской ночью, при тусклом свете луны и уличных фонарей, откопал выброшенное письмо, принес на кухню и прочел еще раз. Она писала, что помнит длинный коричневый шарф в голубую полоску. А вот и нет. Я вывел ее на чистую воду. Шарф-то у меня был голубой в черную полоску. Никогда я не носил коричневого шарфа в голубую полоску. Я тихонько засмеялся. Но вскоре меня опять одолели сомнения. Как все-таки насчет этого шарфа? Какого он был цвета? На улице по-прежнему царила темнота. Казалось, утро не наступит никогда, ночь тянулась бесконечно, даже луна закатилась. Ничего не поделаешь, таковы февральские ночи. Я не вытерпел и позвонил маме, ведь как-никак в свое время шарф связала именно она. Трубку мама сняла не сразу.