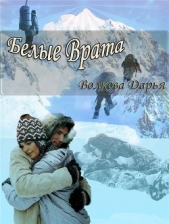Баталист

Баталист читать книгу онлайн
…Он не собирался оправдывать жестокую правдивость своих снимков, подобно другим фотографам – тем, кто утверждает, будто рвется в горячие точки, потому что ненавидит войну и желает покончить с ней навсегда. Он не собирался коллекционировать различные проявления бытия и не пытался их истолковать. Он хотел лишь одного – постичь законы и формулы, подобрать ключ к шифру, который сделает терпимой любую боль. С самого начала он искал нечто особенное – точку отсчета, фокус, который поможет просчитать или уловить интуитивно путаницу изогнутых и прямых линий, головоломку, беспорядочное движение шахматных фигур, сквозь которое проступает механизм жизни и смерти, хаоса и его проявлений; его интересовала война как структура, как голый бесстыдный скелет гигантского космического абсурда…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Лишь бы выжить. Только не те трое друзей с первой фотографии», – подумал Фольк; они позволили себя убить, так и не разжав губ и не потеряв достоинства; скорее речь идет о сомалийце на второй фотографии, который бросился в ноги палачу, моля о пощаде, а тот бил его ногами кудоволь-ствию ребятишек, наблюдавших сцену, – их тени застыли на бурой стене; там, на коленях у ног солдата, он сперва получил удар прикладом, опрокинувший его навзничь, а затем, вскинув вверх руки, чтобы прикрыть лицо, неистово завопил, увидев наведенное прямо ему в лицо дуло автомата, и наконец все его тело подбросило и свело судорогой – в тот миг, когда его пронзили пули. На этот раз Фольк вооружился камерой с автоматической перемоткой – щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк – восемь раз, полная серия, скорость затвора 100, при диафрагме 8. Пятый снимок оказался лучшим; умирающий, чье лицо едва различимо среди вздыбленных красных лохмотьев, судорожно вскидывает руки и ноги. Затем, уставившись на фотографа – Фольк подкрался почти вплотную, пока Ольвидо шептала: не двигайся, прошу тебя, замри и не шевелись, – сомалийский солдат сделал бравый жест – сжал автомат обеими руками и поставил ногу на грудь убитого, словно охотник, который позирует перед камерой, демонстрируя добычу.
– Meik mi uan foto [7], – попросил солдат. – Вот, я улыбнулся. И Фольк вновь поднимает камеру, делая вид, что фотографирует, но не нажимает на затвор. Подобный снимок он уже сделал в Тессенее, Эритрея: два повстанца из «Фронта освобождения оромо» позируют с винтовками в руках, нога одного на шее убитого эфиопского солдата. Не имело смысла публиковать одинаковые фотографии: вышел бы нелепый автоплагиат. Что же касается «Meik mi uan foto», лучшее определение этому эпизоду дала Ольвидо в ту же ночь в Могадишо, пока они сидели в темноте возле окна, в отеле. Обожаю Африку, сказала Ольвидо, она как пробная дорога будущего. Африка круче всех дадаистских сумасбродств. Как мультсериал по телевизору, где безумствуют персонажи, вооруженные мачете, винтовками и гранатами.
– Лишь бы выжить, – повторил Маркович. Не желая прерывать воспоминания, Фольк поморщился.
– Большинству из них мольбы не помогают, – пробормотал он. – Даже унижение перед палачом ничего не гарантирует.
Маркович перелистывал страницы. Наконец он закрыл альбом.
– Но они все равно пытаются спасти жизнь, – сказал он. – Почти все. И некоторым это удается.
Он задумчиво разглядывал обложку. Черно-белая фотография, асфальт на дороге, ведущей в Сайгон: мертвая женщина обнимает мертвого младенца. Чуть в отдалении муж держит за руку другого ребенка. Оба тоже убиты. Все до одного мертвы. Посреди дороги – конусообразная соломенная шляпа, прикрывающая кровавую лужу.
Эту фотографию Фольк не любил, однако издателям в свое время она показалась подходящей для обложки.
– Когда меня освободили, – продолжал Маркович, – я вместе с другими ехал на грузовике… Мы почти не разговаривали. Даже не смотрели друг на друга. Нам было стыдно. Понимаете, все мы знали друг про друга такое, что хотелось бы поскорее забыть.
Он все еще стоял возле стола с лежащим на нем альбомом и молчал. Фольк подошел к бутылке с коньяком и вопросительно показал на нее пальцем. Не поворачивая головы, Маркович ответил:
– Нет, спасибо. – Фольк плеснул себе коньяку, сделал глоток и поставил стакан на альбом. Маркович поднял глаза. – Там был один молодой смазливый парнишка. Лет семнадцати-восемнадцати. Босниец. И вот этот парнишка понравился одному надсмотрщику, сербу.
Он задумчиво усмехнулся. Если бы не выражение глаз, можно было бы подумать, что это приятное воспоминание.
– Когда по ночам надсмотрщик уводил его к себе, – продолжал он, – парнишка всегда что-нибудь с собой приносил. Шоколадку, банку сгущенного молока, сигареты… И все отдавал нам. Иногда он доставал даже лекарства для больных… Но его все презирали. Понимаете? Однако от гостинцев не отказывались. Хватали с жадностью, честное слово. Всё, до последней сигареты.
Заглянувший в окошко солнечный луч осветил лицо Марковича, и зрачки яснее обозначились сквозь стекла очков. Кривоватая улыбка исчезла с губ, словно солнечный луч ее стер: глаза приняли обычное суровое выражение, как будто улыбки не было вовсе. Фольку пришло в голову, что в другое время он бы двигался осторожно, медленно поднимая камеру, стараясь не спугнуть добычу, поймать этот неуловимый взгляд. Подобное выражение глаз предполагало некую особенную судьбу. Ольвидо называла его «взгляд со ста шагов». Есть люди, говорила она, которые делают на сто шагов больше, чем остальные, и никогда не возвращаются. Потом они входят в бары, в рестораны и автобусы, и почти никто их не замечает. Невероятно, правда? По сути дела, судьба написана на лице у каждого, как история болезни. С некоторыми так и происходит. Посмотри повнимательнее. Судьба у него на лице. Но не всем удается прочесть ее. Люди встречают такие лица и не замечают ничего особенного. Наверное потому, что в наше время никто не смотрит по-настоящему. Прямо в глаза.
– Как-то ночью, – продолжал Маркович, – несколько наших ребят изнасиловали того парнишку боснийца. Раз даешь своему сербу, приговаривали они, давай и нам. Они сунули ему в рот кляп, чтобы он не кричал. Никто из нас не вступился.
Наступила долгая тишина. Фольк рассматривал фреску: ребенок сидит на песке и смотрит на лежащую женщину, на ее обнаженные окровавленные бедра. Беженцы из объятого пламенем города, идущие толпой под надзором вооруженных воинов, их не замечают. Крошечный сюжет, каких на войне бессчетное множество.
– На следующий день парень повесился. Мы нашли его за бараком.
Маркович смотрел на Фолька, словно ожидая от него какой-то реакции. Но тот ничего не сказал. Только покачал головой, не отрывая глаз от нарисованных на стене изнасилованной женщины и ребенка. Маркович проследил за направлением его взгляда.
– Вам хоть раз удалось что-нибудь предотвратить, сеньор Фольк? Избиение, смерть? Случалось так, что вы могли вмешаться и вмешались? – Он выждал некоторое время. – Или хотя бы пытались?
– Было дело.
– Сколько раз?
– Я не считал.
На губах Марковича мелькнула язвительная улыбка.
– Отлично. По крайней мере, теперь я знаю, что вам хотя бы раз это пришло в голову.
Казалось, он разочарован. Фольк ничего не отвечал, задумчиво разглядывая фреску. Два силуэта, едва тронутые кистью, позади следящего за беженцами солдата, на первом плане. Рыцарь в средневековых доспехах с современным автоматом в руках, безымянный призрак с надвинутым на лицо забралом целится в человека – едва набросанные очертания головы и плеч. Нечто в выражении лица жертвы казалось Фольку недостаточно убедительным. Его убьют мгновением позже, и он, Фольк, это знает. Знает это и палач. Сложнее всего оказалось передать чувства жертвы. Черты его лица, прорисованные коричневым марсом и прусской лазурью, подчеркивающими угловатость и худобу, искажал страх; однако лицо было развернуто не к палачу, а к зрителю – к художнику, или любому человеку, ставшему свидетелем сцены. Именно это смущало Фолька. На лице человека, готового вот-вот умереть, отражается не страх. Если он смотрит не на палача, а на свидетеля, в объектив камеры, заменяющей кисти художника, в воображаемый глаз, который с таким бесстыдством намеревается запечатлеть его смерть, лицо приговоренного выражает не страх, а негодование. Негодующее изумление – вот правильное определение. Как он не догадывался раньше? Человек в пижаме, его только что выволокли из дома, растрепанные волосы, заспанное лицо – и устремленные на него ленивые, трусливые, злорадствующие или сочувствующие глаза соседей. Это в точности тот человек, которого Фольк сфотографировал на шоссе Корниче в Бейруте: его толкали прикладом винтовки – босого, в смешной пижаме в красный и белый ромбик – к тому месту, где на земле уже лежали четверо убитых жильцов его дома. Человек в пижаме знал, что его ждет, он шел растерянный, кожа пепельно-желтого цвета, но страх сменился изумлением и ненавистью, когда позади своих убийц он заметил камеру Фолька, которому неделю назад исполнилось всего двадцать пять. Фольк нажал на затвор как раз в этот миг, и ему удалось поймать яростный взгляд застигнутого врасплох человека, который внезапно понял, что кто-то его фотографирует за секунду до смерти в таком нелепом унизительном виде. Фотография была сделана как раз вовремя: когда Фольк повторно нажал на затвор, в тело человека уже вонзились пули, и он лежал поверх других трупов. Можно было бы сделать еще одну фотографию, но Фольк не захотел. Когда один из палачей приблизился к трупу и наклонился над ним, он поменял диафрагму с 8 на 5,6 и приготовился сделать последний снимок, но тут в окошечко видоискателя он заметил, что человек достал из кармана плоскогубцы, чтобы выдернуть мертвецу золотые зубы, его затошнило и он не сумел навести резкость. Он повесил камеру на грудь, неторопливо направился к стоявшему в отдалении такси с надписью «Ргевв-Запап» на лобовом стекле и под насмешливым взглядом шофера-ливанца, которому он платил два доллара комиссионных за каждый удачный снимок, выблевал весь завтрак, съеденный утром в отеле «Коммодор».