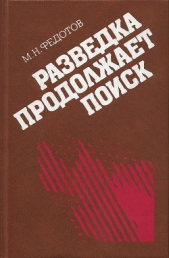Запятнанная биография

Запятнанная биография читать книгу онлайн
Ольга Трифонова - прозаик, автор многих книг, среди которых романы-биографии: бестселлер "Единственная" о судьбе Надежды Аллилуевой, жены Сталина, и "Сны накануне" о любви гениального физика Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой, жены великого скульптора и по совместительству русской Мата Хари.В новой книге "Запятнанная биография" автор снова подтверждает свое кредо: самое интересное - тот самый незаметный мир вокруг, ощущение, что рядом всегда "жизнь другая есть". Что общего между рассказом о несчастливой любви, первых разочарованиях и первом столкновении с предательством и историей жизни беспородной собаки? Что объединяет Москву семидесятых и оккупированную немцами украинскую деревушку, юного немецкого офицера и ученого с мировым именем? Чтение прозы Ольги Трифоновой сродни всматриванию в трубочку калейдоскопа: чуть повернешь - и уже новая яркая картинка...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ей не нравится мой дом и не нравлюсь я, — сокрушалась Таня.
— Да она просто мещанка, — успокаивал Олег, — тебе попалась кукушка-мещанка. Из тех, что только и делают, что вылизывают свою хорошенькую кухоньку с ситцевыми занавесочками, а у тебя ситцевых занавесочек нет.
— Я повешу, — серьезно обещала Таня, — и посуду буду мыть сразу.
— Не поможет. Ты ей вообще не нравишься. Эта кукушка — Анина сестрица. Вера из орнитологического мира.
Прозвали кукушку Верой, шутили, выпивая в кухне:
— Вера там, наверное, очень недовольна. Ну, хватит, а то Вера выскочит, долбанет в темечко.
Олег шутил, Таня — никогда. Наверное, чувствовала, что меня все-таки корежит, Вера — родная сестра.
С какой тоской много раз вспоминала все эти шуточки и наши вечера, вспоминала, когда потерялась навсегда для меня их прелесть. Только одно было важно: увидимся или не увидимся, любит или не любит. И не только ушло милое, скучное, безоблачное — я отстранилась. Отстранилась душой от всех, теперь ее просто не хватало больше ни на кого. Отсюда и непоправимая вина перед Таней, и предательство мое Олега, страдания мамы и правота Веры. Отсюда и феномен: я помню все, касающееся меня и Агафонова, я помню каждый наш день, я помню даже странный пушок на его верхних веках, заметный, только когда свет лампы у изголовья широкой тахты, падая сзади на его лицо, высвечивал эту нежную шерстинку. Тогда его тяжелые, медленные веки напоминали мне крылья бабочки, в сонном томлении приникшей к сердцевине цветка и шевелящей изредка крыльями, чтоб не уснуть.
Я помню день, когда увидела его в первый раз. Он всплыл потом, этот день, и навсегда остался со мной не потому, что это был день моего двадцатилетия, а потому, что днем увидела Агафонова, а вечером о нем много говорили у Петровских. Почему я слушала с таким вниманием непонятные речи Валериана Григорьевича, почему запомнила выражение испуга на лице Елены Дмитриевны, будто приближались к чему-то опасному, грозящему взорваться, разрушить все в красивой, теплой и уютной комнате, почему спросила у Олега неуместное:
— А у него есть дети? — и до сих пор помню, как, смеясь, он сказал отцу:
— Ну ладно, ладно старое ворошить, он классный мужик, вон Ане даже понравился. Правда, Аня?
— Он страшный, — сказала я, и Елена Дмитриевна посмотрела на меня с удивленной благодарностью.
— «Эль омбрэ и осо, куанто мае фэо сон мае эрмосо», — засмеялся Валериан Григорьевич и перевел: — Испанская пословица гласит: «Мужчина как медведь: чем страшнее, тем привлекательней!»
Сколько раз мне вспоминалась потом не эта пословица, а слова бабелевского Акинфьева: «Тебе бы, как увидел меня, — бежать бы надо». Мне тоже надо было бежать. И Олег знал, что бежать, недаром звонки по утрам в воскресенье: «Поедем на дачу?» — и ожидание после работы:
— Я тебя подвезу до института?
И Таня знала.
Когда приплелась — раздавленная лягушка с грязным куском льда, подобранным на улице, — и легла на тахту, положив резиновую грелку с толченым, перемешанным с землей льдом этим на низ живота, села рядом, взяла худенькой, уже голубовато-бледной рукой мою вялую руку, сказала тихо:
— Никогда не поздно.
— Знаю, — безучастно ответила я, глядя в потолок, не поняв ее слов, — знаю…
— Никогда не поздно спастись, хотя бы бегством. Я помогу тебе, я буду с тобой. — И вдруг поцеловала мою руку. — Прости!
— Ты что! — рванулась я. — Ты с ума сошла!
Мы лежали рядом, и я впервые плакала, и Таня гладила мои волосы, и утешала, и говорила, что ее вина, что помнит, как год назад пожелала мне любви, плохо обернулось пожелание, а потом другое, что все наладится, только я должна больше думать о нем, но не так, как сейчас — «любит не любит» и «не бросай меня», потому что это думать о себе, а понять, что у него теперь «день собаки», как говорят англичане, он наконец близок к цели, к мировой славе, к вершине своего таланта, и гораздо труднее разделять счастье, успех, чем беду. Это только кажется, что беду труднее.
Потом поила чаем и бежала в аптеку.
— Не ходи, это не обязательно.
— Мне самой нужно лекарство взять, а то все недосуг.
Я не спросила, какое лекарство нужно Тане и почему это вдруг лекарство, а уже были зловещие анализы и вроде шутливое приглашение:
— Полежали бы недельку у нас в гематологии, мы бы вас рассмотрели…
И год назад что-то было у нее: какая-то странная слабость и противная потливость, советы участкового врача покупать гранаты и гулять больше.
На гранаты не очень хватало, а вот гулять — пожалуйста, это ей нравится, и Арно тоже. Каждое утро в восемь встречались мы во дворе. В то примечательное лишь обидой моей утро встретились тоже.
Я сидела в кухне за столом, покрытым клетчатой клеенкой, и терпеливо дожидалась, пока закипит наш вредный чайник. Сидела хмуро и расстраивала себя злыми мыслями — занятие неприятное, но небесполезное. Результат его давал мне право обиды, право уйти сегодня вечером к Петровским. «Неужели они забыли, что у меня сегодня день рождения? Ну ладно Вера, у нее ученые советы, ВАКи, редколлегии, но мать? Ведь двадцать лет назад в этот день она кричала: „Когда же это кончится?!“, — сама рассказывала, как трудно меня рожала, а теперь забыла? Она поздно меня родила — в тридцать пять. Но была, наверное, красивая. Она и сейчас еще совсем ничего, моя мать. Конечно, до Елены Дмитриевны Петровской, ее ровесницы, ей далеко, но у Елены Дмитриевны и жизнь другая».
Мелькнуло в коридоре шелковое кимоно. Тихие голоса в прихожей. Мать уговаривает Леньку не надевать роскошную ондатровую ушанку, уже тепло, а возвращается из университета поздно, нападут хулиганы, сорвут. Не шапки жалко, а что изобьют, обидят. Ленька упорствует: еще бы, у него сегодня свидание, пойдет с девочкой в кино, расспрашивал меня — покупать ли ей в буфете пирожное или это пошло. Торопится улизнуть, пока не появилась Вера, тогда шапки не видать. Хлопнула дверь. Мать торопливо назад, в комнату: успеть убрать Ленькину постель, серьезное нарушение устава, — постель Ленька должен убирать сам. Господи! Как ей приходится метаться, хитрить, ловко изворачиваться. Она зажата тяжелыми плитами моих и Вериных распрей, семейной жизнью дочери, избалованностью Леньки, жалостью и любовью к нему, и нужно уметь изворачиваться, выскальзывать из щелей и удерживать эти плиты, чтобы не рухнули на кого-нибудь.
Теперь в ванную, подтереть пол после Леньки. На ходу мне:
— Ешь хлеб, посмотри, на кого уже похожа.
Нагнулась с тряпкой, открылись высокие икры, тонкие щиколотки, гладкая смуглая кожа. Ни старческой сухости, ни выпирающих извилин вен. В солнечном луче вспыхнул синий шелк кимоно, засветились желтые хризантемы. Старенькое роскошное кимоно, подарок «родительницы». «Родительница», то есть мать какого-то ученика, даже помню какого — Вовки Николина, приехала из Китая, в подарок привезла кимоно. Кругом полно родительских подарков, куда ни кинешь взгляд — подарок: хрустальные вазочки, тюлевые занавесочки, чешская эмалированная посуда в цветочках — недавнее подношение, перед самым уходом матери на пенсию. Она была хорошей учительницей. Ее любили и ученики и родители. До сих пор появляются с дарами, уже бескорыстными. Этот Вовка Николин торчал у нас целыми днями. Мать за границей, отец на ответственной работе, вот и околачивался у нас. Готовил уроки, помогал мне чистить картошку, потом обедали вместе. Много их тут перебывало, вернее, не тут, а на старой квартире. Эту роскошную четырехкомнатную получила Вера, а на Миусах — две комнаты, газовая колонка, железные мусорные баки во дворе. Круглый стол, за ним и собирались вечерами мизерабли, как их называла Вера. Платные уроки. Церковно-приходская школа. Сидят и жужжат: «ущ-ющ, ащ-ящ», сопят над задачками. Вера их по математике подтягивала, мать — по русскому, а я уроки проверяла. Научить ничему не могла, сама способностями не блистала. Тянула на четверки, благодаря усидчивости и зубрежке.
— Анечка, я сейчас, только руки помою, — предупредила, чтобы задержалась, выглянув из ванной.