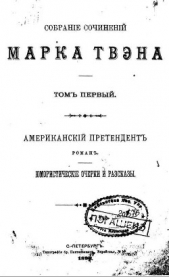Придорожная собачонка

Придорожная собачонка читать книгу онлайн
Книга нобелевского лауреата 1980 года Чеслава Милоша «Придорожная собачонка» отмечена характерными для автора «поисками наиболее емкой формы». Сюда вошли эссе и стихотворения, размышления писателя о собственной жизни и творчестве, воспоминания, своеобразные теологические мини-трактаты, беглые заметки, сюжеты ненаписанных рассказов. Текст отличается своеобразием, богатством мысли и тематики, в нем сочетаются проницательность интеллектуала и впечатлительность поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она была любовницей могущественного короля и потому удостоилась упоминания в энциклопедиях. Король — в огромном парике и шелковых чулках, эдакий блистающий коротконогий Юпитер — похитил ее девственность, когда ей было шестнадцать лет, и, вознесенная до высокого ранга официальной фаворитки, годами моля Бога о прощении ей греха похоти, она родила королю четверых детей. Оттесненная на второй план, вынужденная делить благосклонность короля с другой придворной дамой, она долго добивалась разрешения удалиться от двора. Наконец в возрасте тридцати лет ушла в монастырь кармелиток, где приводила свои дни в молитвах и сочинении религиозных трактатов. Одна моя современница из города Финикса в Аризоне, переживавшая кризис после разрыва любовных отношений, прочла биографию фаворитки, и ее мысли по этому поводу могли бы стать темой рассказа.

Карлик Валентий

Карлик Валентий проводил целые дни в кресле перед окном, выходившим на оживленную улицу. Иногда своими изуродованными артритом пальцами он брал перстень — дар короля, единственное свидетельство того, что некогда он славился при дворе своими бесчисленными проделками, забавными дурачествами, неожиданными рифмами, остроумными репликами. Теперь он почти ничего уже не помнил и просто не понимал, как все это ему раньше удавалось.
Он смотрел на идущих мимо мужчин и женщин, разглядывал их одежду, наблюдал за движениями — у кого манерными, у кого небрежными — и представлял их себе в разных обстоятельствах, сопровождал их до самого дома, до спальни, где зеркала и кровати, видел в своем воображении их наготу, их любовные игры, ласки, ссоры, восклицания. Он завидовал их нормальной жизни, каковой никогда не знал, счастью взаимной любви, теплу семейной обыденности, гордости отцовства, детским рукам, обнимающим за шею, всему тому, в чем ему было отказано. Он завидовал им, но теперь иначе, чем в былые времена, — к зависти не примешивался гнев. Напротив, теперь ему казалось, что они заслуживают беспрерывного восхищения, потому что очень счастливы, хотя и не подозревают об этом. И в конечном счете мир не так уж плохо устроен, раз только немногим, таким, как он, по Божьей воле написано на роду быть изгнанными с многоцветного упоительного празднества.
Он долго бунтовал против своей судьбы, и это шло на пользу его острому языку, которого как огня боялись придворные. Но в сущности — как-то раз сказал он себе — нельзя утверждать, что со мной обошлись несправедливо или справедливо. Просто Творца, когда он лепил мое тело из глины, постигла неудача, и мне некому мстить за то, что мое существование — лишь видимость жизни. Пусть же я умру прежде, чем мне вздумается нарушить своими сетованиями миропорядок.

Школьная экскурсия

Не теряю надежды, что этот город, подобно Гданьску, обладает способностью обрастать легендами. Поэтому мое краткое сообщение может кому-нибудь пригодиться.
Это было давно, в двадцатых годах. В июне, когда все кругом — и крутые улочки, и окрестные пригорки, поросшие лесом, — манило нас яркой зеленью только что распустившихся листьев, наша школа обычно устраивала дальние экскурсии. На этот раз путь лежал не к развалинам средневекового замка, стоявшего на острове среди озера, и не к дворцу с парком, которым сто лет назад владел известный университетский профессор, а к месту, история которого свидетельствует О любви наших учителей к романтическим персонажам. Впрочем, признаем откровенно, что педагогам должно внушать молодому поколению некие представления, подкрепляющие местную мифологию. Поскольку главным мифологическим героем нашего города считался Великий Поэт [4], не было недостатка в его подробнейших жизнеописаниях, изрядная доля которых отводилась любви — несчастной любви, ибо возлюбленная поэта вышла замуж за графа. Место, куда мы направлялись, было увековечено именно этой любовью, что сейчас меня несколько удивляет, но тогда не удивляло.
Мы влезли в поезд с жесткими лавками светлого дерева, и было нас достаточно много, чтобы заполнить шумным весельем несколько вагонов. Потом часа два беззаботности, известной всем школьникам, которым выпадала удача отправиться в путешествие вместо того, чтобы сидеть на уроках. Поезд почти все время шел среди леса, и когда мы высыпали из вагонов, школа развернулась длинной змеей и несколько километров маршировала по сосновому бору. Целью нашей было белое здание усадьбы, где когда-то жила возлюбленная поэта со своим мужем, богатым помещиком, и роща в нескольких сотнях метров от дома (сколько помнится, березы и сосны) с камнем посредине в память прощального свидания поэта со своей любовью.
Мы безучастно слушали, как учителя пересказывают романтическую легенду. Кажется, и они не спрашивали себя, подобало ли молодой женщине, выскользнув из дому в полночь, встречаться в лесу с возлюбленным, в то время как граф, надо полагать, спал сладким сном. По правде сказать, как складывались отношения этой троицы, до сих пор неизвестно. Возможно, романтический флер помогал принять версию о платонической, несвершившейся любви. Эту версию, очевидно, разделяли и те, кто заложил памятный камень. Но разве ксендз-законоучитель, следивший за нравственным здоровьем школьников, не мог воспротивиться нашему паломничеству в страну воспоминаний, отдававших грехом прелюбодеяния? То, что он не протестовал, могло свидетельствовать о могуществе культа Великой Личности, приумножившей нашу гордость и славу, но могло говорить и о бессилии перед законами литературы — сферы, в основе своей нечистой.

Лес

В двенадцать лет я был любителем природы, рисовал карты своего государства, сплошь покрытого лесом, и зачитывался романом Майна Рида о девственных лесах над Амазонкой [5]. Зачитывался, возможно, под влиянием журнала «Польский охотник», который выписывал отец, и споров о местах обитания глухаря и лося в Рудницкой Пуще. Без сомнения, пионерами охраны природы всегда были охотники, а охота когда-то составляла привилегию монархов и герцогов; благодаря им в Европе сохранились большие лесные массивы, затем превращенные в национальные парки — лес Фонтенбло, Валле-д’Аоста, Беловежье (когда же, наконец, все Беловежье будет признано Национальным парком?). Со времен нашествия на Англию норманнов и Вильгельма Завоевателя, который ввел драконовские законы об охране королевских оленей, целые столетия в разных странах Европы, то угасая, то набирая силу, шла борьба за доступ к лесу между аристократами и плебеями. Во времена Французской революции не только разбивали молотками головы святых на романских порталах, но и уничтожали в лесах все, что летает и бегает.
История европейских лесов отмечена еще одним противостоянием — стремлением их сохранить и потребностью в древесине. Мощь островной Великобритании обеспечивали корабли, материалом для которых было дерево, но только высокосортное — прежде всего древесина дуба, шедшая на постройку корабельных корпусов. Об ущербе, нанесенном дубовым лесам, свидетельствуют отраженные в английской словесности дебаты шестнадцатого и семнадцатого веков. В Англии колебания цен на рынке древесины — главным образом цен на дуб и мачтовую сосну — зависели от сплава по Неману и Двине. Взлетевшие во времена Французской революции цены привели к спешной вырубке последних лесов и обогатили немецких купцов в Риге.
Слово «лес» сегодня вызывает иные, чем раньше, ассоциации. Леса в прежней Польше, например, были смешанными, с преобладанием высокоствольного дуба, граба и липы, то есть не имели ничего общего с нынешними хилыми сосняками. Сетования в «Сатире» Кохановского относятся, очевидно, к тому времени, когда в Польше вырубили лиственные леса. Трудности их восстановления и более быстрый рост хвойных деревьев изменили пейзаж. В странах, где веками занимаются лесоводством, выращивают наиболее окупаемые сорта строевого леса. Так обстоит дело и в Японии. Киото лежит среди холмов, окруженных огромными кедровыми лесами густой посадки, — вероятно, это свидетельствует о том, что в японском деревянном домостроительстве тонкие брусья нужнее, чем балки.