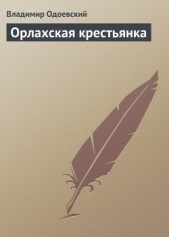Мемуарр

Мемуарр читать книгу онлайн
Комната шесть на шесть дачного дома, довольно плотно заставленная: стол, придвинутый к топчану, кухонный столик, высовывающийся из передней, и вообще – мебель:
хоть и сведенная до минимума, но в этом пространстве кажущаяся избыточной.
Август, Майя, их сын, дочь, двое внуков, внучка.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И так далее. Чего только не было, все было. Все, что у всех, – и кое-что, что только у меня. Все, что можно вспоминать. Ах, предупредил бы кто-нибудь, что ни в коем случае не надо, не вспоминай! Чтбо вспомнил, то немедленно и забыто. Отныне будешь вспоминать только вспомненное. Отныне три тысячи шестьсот секунд каждого часа, двадцать четыре часа каждых суток минус сон при условии, что ничего не снится, тридцать суток каждый месяц – самодовольно ужмутся до “а сейчас он поделится с нами воспоминаниями”. А он уже поделился. Вот на этих трех, ну пяти сотнях страниц, которые, если гладко пойдет, мы за пару дней осилим. Пока не вспоминал, то помнишь, переплывал Оку – и как сносило! Струи были струны тревоги, сети риска, раз на раз не приходился. А стал вспоминать – и сплелось в один общий кроль и брасс. Против которых потоку не устоять – и обмелело. Обмелев, где заросло, где высохло. Тридцать метров пешком до белого бакена не выше сосков, тридцать от него до красного по плечи и последних тридцать до берега, уже поднимаясь из вод, как дядька Черномор. Сложив рубашку, штаны, кеды, перетянув ремнем, подняв над головой. Можно не плыть, плаванье – там, в воспоминанье.
А ведь соврал! Ведь это ты Лугу переплывал. И не особо сносило.
А одежку над головой, как знамя и SOS, ввысь подняв, Жеймяну форсировал, по дну ступая. Лугу под Ленинградом, Жеймяну в Литве – вспомни-ка, мемуарист… Ну Лугу, ну Жеймяну. Но не соврал. Приврал – это да. Так небось не книгу судеб переписываю. В ней, в судеб, ни единого наклона буковки нет неправды. Потому никто ее и не видел. А у меня мемуарр, такой специальный жанрр, чтобы привирать, бессознательно и правдоподобно.
Например, мемуар про кота Мамурру. Такой персонаж в стихах Катулла. Я студентом листаю книжку “Лирика”, только что вышла. Туманная роза на супере, воробей на обложке, чувак с лирой и в бороде, чувиха с цветком и грудью на развороте титула. Кот Мамурра (прибавлено: и с ним похабник Цезарь). Кот прежде всего небось потому, что Мамурра – мурлыканье. А так – мерзавец. И никакой не кот – а козел. Говорят, поселилась под мышкой дикая тварь у тебя – старый вонючий козел. Пиотровский Адриан перевел. В аккурат в этой “Лирике” ему имя вернули. Замученному в застенке, после двадцатилетней безымянности. Кота это он придумал, римляне крепче выражались, а по-русски в самый раз. Так котом в моей памяти и отложился – никак не из-за гофмановского Мурра, а потому, что жирует и потаскун. Богатей, и каждый день все богаче, потому что взяточник. У Катулла он попросту хер. В переводе – не Пиотровского, не замученного, а векового старца в сединах – попристойнее: хрен. “Блудящий хрен истасканный”. Бессмысленное словосочетание: старый хрен – понятно, блудящий – орхидея с зубами? Кот бы лучше. На своих же девках делающий деньги. “Ты падаль!” – “Сам ты падаль!” – “Мразь и падаль!” И тут наместник, чье лицо подобно гноящемуся вымени, смеется. Не для вас, Козлов, сделан подземный переход? Клевещущих козлов не досмотрел я драки. Не досмотрел я РАППа. Не досмотрел, как РАПП сгонял этап. Переводчику сорока не исполнилось.
Короче, Луга, Жеймяна, прибавлю к ним Лиелупе с Даугавой, да и Волгу с Днепром, и Пыжму на Урале, и Тису в Карпатах, и Темзу – там, где она называется Айзис, Изида, и Гудзон на подходе к Нью-Йорку, а и, чего мелочиться, Миссисипи – это в которых я плавал. Приведу к общему знаменателю, сложу, поделю на равные русла, вот и выйдет мемуарная Ока. В Миссисипи не плавал, сидел на берегу, ножками в ней болтал – за дальностью от места прописки идет в зачет как заплыв. Тем более что в каких-то из них, и почему бы не в ней, видел утопленников. Сколько? Спасенных – двух, сгинувшего – одного, и одного неизвестно кого, достанного со дна, в коряжине застрял. И захочу – могу про них вспомнить. Например, что были они две девицы и два мужика. Неинтересно? Утопленник – всегда интересно. А когда в первый раз вспоминал, о-очень выходило интересно. Про каждого. А сейчас вспоминать, что интересного про каждого рассказал, – интерес собачий.
Возврат к исходной точке. Что же такое было, про что говорится “чего только не было!”? Что-то, от чего нападал восторг. Отчего налегало отчаяние. Что-то, что ужасно не хотелось, а надо было исполнять, чтобы не стало хуже. Масса делишек, мыслишек, болезнишек, удовольствиешек, которых смысл, цель и содержание – убить время. Потому что шестьдесят лет, семьдесят лет тиканья ходиков – как с ним справиться, если не придушить, не заткнуть Хроносову пасть? Сплошь глупые предприятьишки – особенно те, что выглядят умными, то есть заманчивыми, особенно те, что особенно умными, особенно заманчивыми… А-а-а, ты, стало быть, исключительный. Всем подходит, а тебе – глупые? Ты с Промыслом не согласен, ты недоволен, тебе подавай выдающееся… Ну да, и это тоже, бесконечные разборы, бесчисленные разборки, согласен – не согласен, доволен – не доволен, это тоже лет тридцать всяко съест. И на то, чтобы притерпеться к хамству “ему подавай выдающееся”, не меньше прикинь.
Давайте наконец вспоминать. Детство. Мухоедство. Не забывая, что они же – дедство, полпредство. Роман “Овод”. Где Обводный канал и Фонтанка-река тра-та-та каждый вечер встречаются, там чего-то там пьют, блатные песни поют и еще кое-чем занимаются. Каждые сперва еще только сумерки, потом именно что вечер, потом непроглядная ночь, с первого сентября, берущим за сердце радиоголосом народного артиста – “Овод”. До первого января. До первого марта. Какая-то Этель, какая-то Войнич. Старушка, бабушка. Дедушкина вдова. Советское полпредство в Сан-Франциско дало обед по случаю титилетия Этели. Полномочное представительство. “Монсеньор, я Риварес!”
Это мое детство. Первоиюньский выезд детского сада на дачу. Жидкая манная каша. Свисающие с потолка, цепляющиеся за волосы воспиталок липучки – противомушиное средство. Насекомоедство. Мотыльки, комарики, оса – все приклеились. Воспиталка бодалась. Воспиталки ели манную кашу из ведра. Из эмалированного – алюминиевыми ложками. Эмаль. Со сколами. Запомнил внук, вспоминал дед. Лиможские эмали. Внук – ни тпру, ни ну, ни кукареку, дед знал. Зал лиможских эмалей. Не в Лиможе. Не в Лиможе, а-а… в Эрмитаже, комната номер. Психея преподносит подарки злым сестрам. Миловидным. Купидоны преподносят что-то какой-то юной даме. Мадемуазели. Свет в помещении приглушенный. Розу? Голенькие… Это могла быть толкучка экскурсии, водили со школой, внук мог бросить взгляд. Дед мог знать и то, что запомнилось внуку. Плюс отдельно, Эрмитаж, комната номер.
Детство не мемуарно. Детство – ядро надвигающегося ужаса. Психического. Психейного. Эротического. Забыть, забыть что-то негодное! Негожее. Как врал. Как подглядывал. Как зажмуривался. Закрывался одеялом с головой, затыкал уши. Совался, куда почему-то знал, что нельзя. Детство – извержение всего желанного, что нельзя. Всего, что нельзя и потому желаемого нестерпимо, вожделенного, горячего. Гейзер. Детство – узел романа в четырех томах, в каждой главе обещающего с этим запутанным, стыдным, гоголь-могольным развязаться, выговориться, оторваться. Но влипшего в него, как Братец Кролик в смоляное чучелко. Выползающего, как остывающий чугун, как карамельная масса, в пятый том, в шестой – объявленные совсем из другой оперы, но продолжающие объясняться, уточнять. Заходиться в самобичевании. Оправдываться.
Хорошо, пусть без детства. Откроем заслонку, направим, что поддастся, в изложницы влюбленности. У меня, еще в статусе внука, хотя об этом и не догадывавшегося, их было три. Первую звали, верьте не верьте, Ева. Нормально. Библия ни при чем, Библии еще не существовало. Почему не Ева, если есть Ада, если есть Оля? Куда необычнее, что официально, по метрике, ее можно было звать Ева-Татьяна. Дочь австрийских антифашистов, бежавших от Гитлера. В Свердловск. На год младше меня, а мне шесть. Если у влюбленности была причина, то в чем – не знаю. Что девочка – другого в голову не приходит. Длинные волосы, мягкие манеры, нежная речь – не мальчик. Если схватить, то не чтобы бороться, а только сжимать.