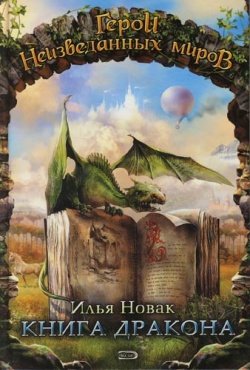Мед и соль

Мед и соль читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После разговора с малюткой Гольдбергом Вацек Полляк спустился в городок и перекусил в «Русалке» в обществе двух давнишних приятелей, с которыми некогда играл в оркестре. Они обменялись новостями, размочив их в умеренной дозе спиртного. Потом Вацек Полляк вышел на рыночную площадь, где его на чем свет стоит изругала торговка фруктами Ленка. В заключение она сообщила ему, что в его мед давно уж кое-кто на… Тут Ленка употребила выражение, которое привело в восторг весь рынок. Вацек Полляк ничего на это не ответил, только усмехнулся и показал на трубу. И этот его жест был кое-кем истолкован, как нечто еще более неприличное и оскорбительное, чем слова Ленки. Очевидно, так же восприняла его и торговка, ибо поток бранных слов хлынул из ее уст с новой силой. Остаток вечера Вацек Полляк провел с Хеней, дочерью садовника, девицей лет двадцати. Они беседовали в разных местах — у реки, на улице, в кафе. В тот вечер молодые люди, хоть и был повод, не выпили лишнего — тому есть свидетели.
Нельзя сказать, что было очень поздно, когда Вацек Полляк возвращался в Марийкин дом, чтобы провести ночь, как и обещал, на чердачке. Но по пути он споткнулся обо что-то мягкое. Это была не собака, как можно было бы предположить, а малютка Гольдберг, явно переоценивший свои силы. Он вдруг ощутил такую слабость, что вынужден был присесть, а затем не то лишился чувств, не то попросту уснул. Наклонившись над существом, измазанным в глине, Вацек Полляк узнал обитателя Марийкиной кровати.
— Это ты, блошка? — спросил он.
— Это я, — ответил гражданин Гольдберг.
Удостоверившись, что ноги не очень-то повинуются этой личности, Вацек Полляк взвалил ее на плечо и таким образом, исторгая время от времени проклятия, добрел уже в полнейшей темноте до Марийкиного дома. Непристойные выражения, которые отпускал Вацек Полляк в адрес малютки Гольдберга, слышал один из ночных сторожей. На следующий день за сигарету, и даже за половинку, или за булочку, преподнесенную его любимой таксе, ночной сторож охотно повторял их, всякий раз начиная сызнова. Сколько бы ни рассказывал, повторял все в точности, не прибавляя ни словечка и не меняя голоса.
II
Дни уже не так жарки, как неделю назад, зато ночами потеплело. Погода установилась не солнечная, но тихая. Ровный мягкий свет струился в окно с утра до вечера. Сейчас около пяти часов пополудни. Маленький гражданин чувствует себя уже вполне сносно, он только что «умял» тарелку каши, приготовленной Вацеком Полляком. Вацек забирает пустую тарелку, выносит на кухню и возвращается с чаем. Затем подает больному немного фруктов. Гражданин Гольдберг берет тарелочку, но фруктов не вкушает.
— Вацек Полляк, — вдруг произносит он.
— Ну?
— Да так… — говорит Гольдберг.
— Чего тебе?
— Вацек Полляк, я хочу сказать тебе, что я счастливчик.
— Вот уж не думаю. Этого я бы не сказал…
— Я действительно счастливчик, но ты не знаешь почему… Как подумаю, что «это» могло случиться там, среди каменных стен, в городе, где у меня единственный приятель — этот мерзкий доктор Гольдберг, бочка с желчью, который, зная, как я в нем нуждаюсь, умышленно бы не приходил… И вдобавок ведь его нет, Вацек Полляк… Он за границей. Нет, я удачливый!
Вацек Полляк садится возле кровати и начинает забавляться трубой.
— Видишь ли… Он приговорен ко мне, а я к нему: у него никого нет, у меня никого нет, он никому не нужен, и я никому не нужен, и поэтому мы так и ненавидим друг друга… Когда наступает вечер, ему не к кому пойти, и мне не к кому пойти. Когда приходит праздник, то же самое — он не знает, куда себя девать, и я не знаю… Он ждет, чтобы я сделал первый шаг и позвонил ему, а я со своей стороны жду того же самого от него. В конце концов кто-нибудь из нас делает первый шаг — и поток желчи и ненависти прорывается наружу, Вацек Полляк. Мы оба давно поняли, что обречены довольствоваться обществом друг друга, должны всегда быть вместе, связаны одной веревочкой. В нашем возрасте единственные существа, на которых можно положиться, — это родные, но ни у него, ни у меня нет семьи. У меня всех убили, у него тоже убили. Сразу же после войны надо было обзавестись семьей, что-то предпринять, а не плакать, ведь слезами мертвым не поможешь, но мы не обзавелись семьями и не успели оглянуться, как превратились в дряхлых старикашек. Но он по-прежнему не хочет примириться с мыслью, что, так сказать, опоздал на последний автобус! И подумать только, что я мог бы лежать в четырех стенах, не видя зеленого листка, и один как перст, между тем как здесь… Вацек Полляк! Ну кто бы еще согласился сделать для меня то, что делаешь ты? Убираешь, подаешь, приносишь, поешь, играешь на трубе.
— И к чему все эти тары-бары, Гольдберг?
— Это не тары-бары, Вацек Полляк.
— Тары-бары! Я уже говорил, почему здесь торчу.
— Почему же ты здесь торчишь?
— Говорил…
— Я запамятовал.
— Не валяй дурака, Гольдберг, а то получишь!..
— Тебе только кажется, что ты пришел… А настоящая причина совсем другая.
— Какая же?
— Тебе кажется, что ты пришел оторвать башку Марийке? Нет, ты пришел ради меня!.. Ты считаешь себя Вацеком Полляком, все считают тебя Вацеком Полляком. Но что из этого?
— Что ты хочешь этим сказать. Гольдберг?
— Я хочу сказать, что каждый видит себя с какой-то одной стороны… Но бывают минуты, когда вдруг начинаешь видеть и другую сторону — главную! Тогда предстает перед тобой истинное лицо человека! Когда ты вошел сюда впервые, я взглянул на тебя и подумал: «Вот пришел Илья-пророк».
— Илья-пророк? Из Ветхого завета?
— Это ты и есть, Вацек Полляк, только тебе это невдомек. Но Илья-пророк — это ты и есть. Прежде на этой земле в пасхальную ночь широко отворяли двери, ждали, призывали его. Он не являлся. Не являлся, ибо сам выбирает момент пришествия. Он знает, когда в нем нуждаются…
Вацек Полляк начинает трубить из озорства. Не хочет слушать этой болтовни. Отняв трубу ото рта, он говорит:
— Не желаю я быть никаким Ильей-пророком, ни к чему мне это. Я уже напал на след: Древняк спрятал от меня Марийку. Но он, подлюга, долго ею не попользуется, слышишь, Гольдберг? Это говорю я, Вацек Полляк.
III
В отделении милиции стоит у окна сержант Древняк, приземистый, крепко сбитый, с грубыми чертами лица и прекрасными лучистыми глазами. Сейчас он смотрит на рынок. Древняк расстроен. Уже несколько дней у него такое состояние, в котором человеку трудней всего разобраться самому. Все его раздражает, по любому поводу он впадает в раж, грубит всем, тут же, правда, спохватывается, сожалеет, извиняется, но спустя минуту поступает таким же образом с кем-нибудь другим. Где-то внутри ноет, не унимается боль, трудно усидеть на месте, и все он чего-то ищет, а чего — сам не знает. Ищет людей, да не тех, что встречаются. Древняк находится в состоянии, которое обескураживает его совершенно. Всего несколько дней назад он вернулся из леса, где Марийка держалась с ним, как никогда прежде. Была она ласковой, сердечной, приветливой, просто родная душа, — он не знавал ее такой. Но от чувства воскресной гармонии Не осталось и следа, — и в груди у него настоящий ад. Казалось бы, никакие внешние причины этого ада не оправдывали. В отделении ничего особенного не произошло, не было ни убийств, ни серьезных грабежей, так, мелочи, которые никто не принимал всерьез. Давали людям накричаться досыта, заранее зная, что крикуны через час сами поймут, что дело не стоит выеденного яйца.
Выглянув из окна, Древняк заметил на другой стороне рыночной площади обычную стайку местной молодежи, одетой согласно последним кинематографическим образцам: узкие брюки с накладными карманами, кто с пышной шевелюрой, кто коротко острижен, узконосые туфли на высоких каблуках, причинявшие владельцам невероятные страдания, потому что были это в основном ребята полудеревенские, много походившие босиком, с широкими ступнями. Они стояли, глядя прямо перед собой, и время от времени переговаривались. Среди них находился и Вацек Полляк. Он стоял, уставившись в одну точку на этой стороне площади, где помещалось отделение милиции и дом Марийкиных родителей. Тут-то Древняк и понял, что его раздражение имеет прямую связь с Вацеком. И, повернувшись к начальнику, с которым у него наилучшие отношения, говорит: