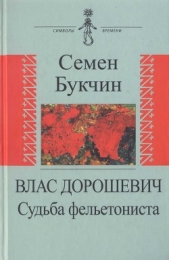Услады Божьей ради

Услады Божьей ради читать книгу онлайн
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впрочем, по причинам, нами не понятым, древние греки и римляне были нашими предками. Мы узнавали себя в них, в их благовоспитанной жестокости, в светской наглости, в несколько чванливом чувстве превосходства, и между нами установилось далекое родство: дядя Алкивиад и дядя Регул. Мы не вдавались в туманные теории, согласно которым чистота расы зависит от принадлежности к германским племенам. Всякого рода умствования у нас были не в чести. У нас был ясный рассудок, и здравомыслие мы почитали выше гениальности, а средиземноморский свет и солнце — выше нордических туманов. Мыслители ценились у нас не слишком высоко. Мы любили художников, архитекторов, воинов и священников. Дедушка мой не бывал ни в Риме, ни в Афинах, но говорил о них так, будто прожил в них всю жизнь. Марий был, по его мнению, немножко пройдохой, мы стыдились Верреса, но Плутарх и Сулла, Перикл и все Горации, в том числе поэт, всегда были старыми друзьями нашей семьи. Этих людей мы бы повстречали, если бы жили в ту эпоху. Но очаровательная простота и уважение к истине позволили нам родиться лишь в эпоху Крестовых походов.
Мы произошли, вперемешку и издалека, от строителей Акрополя, от легионеров Цезаря и от еврея-революционера, чью фамилию мы обожали почти так же, как нашу собственную. Еще одна тайна: это был единственный революционер, которого мы принимали, которого мы даже звали себе в учителя. Всех остальных как бы и не было. Зачем нам были нужны всякие ацтеки и инки, вошедшие в бурную историю позже нас? Мы знали, конечно, что существуют негры, эскимосы и разные представители желтой расы, но мы их никогда не видели. Пришлось дожидаться Колониальной выставки, чтобы моя двоюродная бабушка увидела, наконец, воочию настоящего негра. Кстати, она осталась от него в восторге. И все-таки было невозможно себе представить, что эти люди устроены совсем так же, как мы. Неслучайно ведь Господь, обычно такой снисходительный, наделил их такой внешностью. И даже американцы представлялись нам всего лишь дурно воспитанными большими детьми, о которых трудно было говорить без улыбки. Прабабушка моего дедушки, оставившая после себя мемуары, часто цитировала Шамфора, Ривароля, госпожу де Сталь, Шатобриана. Но ни словом не обмолвилась о Бенджамине Франклине, хотя и встречала его, о чем нам известно из достоверных источников, в Версале. Дедушка мой следовал этому примеру и временами делал вид, будто забыл, что Америка уже не является английской колонией. Он недолюбливал англичан, но еще больше опасался той подозрительной поспешности, с какой колонии стараются освобождаться от своих хозяев. «Это такая молодая нация…» — мечтательно говорила о Соединенных Штатах наша соседка по имению, старавшаяся идти в ногу со временем. «Плохо только то, — отвечал мой дед, — что эта нация молодеет с каждым днем». И добавлял, что если бы он оказался на месте Христофора Колумба, то он ни за что никому бы не сказал, что открыл Америку. Только одна нация, кроме нашей, была достойна внимания, а то и некоторого уважения: это были китайцы. Они изобрели порох, компас, фейерверки, воздушных змеев, отчего в мандаринах, испокон века соблюдавших незыблемые традиции, можно было видеть своего рода ученых коллег, ироничных, немногословных и весьма удаленных от нас неких то ли сообщников, то ли родственников, чей культ предков и закоренелый индивидуализм на веки вечные оградил их от революционных угроз, начавших нависать над Западом еще во времена Лютера и Кромвеля.
У нас был самый что ни на есть простой образ жизни, где главное место занимали мессы, псовая охота, культ белого флага и родовитость. Ничего удивительного в таком образе жизни мы не видели: слишком давно он установился, и ничего иного мы просто не могли себе представить. Но достаточно мне вспомнить какое-нибудь время года, день и час этого совсем вроде бы светлого существования, чтобы тут же осознать всю плотность тайн, скрывавшихся за этой прозрачностью. Понадобилось очень много времени, чтобы все стало таким легким. Понадобилось много страданий, много пота и крови, чтобы я мог весело кататься на велосипеде по аллеям вокруг большого каменного здания с башнями и дозорными дорожками, которое местные жители называли замком. И они были правы. Это был всем замкам замок.
Нам казалось совершенно естественным жить в замке. Здесь родился мой отец, и его отец, и отец его отца. Из поколения в поколение мы здесь рождались и возвращались умирать. Один из братьев моего прадеда был на протяжении долгих лет невероятным и очаровательным мошенником. Благочестивого уничтожения чудом избежали лишь одна-две его фотографии. Он дюжинами продавал не принадлежавшие ему дома, корабли, скаковых лошадей, а то и женщин. Захватив с собой приданое сразу трех девиц, разумеется, девиц из высшего общества, он укатил в Южную Америку. Рассказывали, что его матушка, святая женщина, узнав об этом, умерла от горя. Как и все ее предки, она умерла в Плесси-ле-Водрёе. А через несколько лет он и сам вернулся из Аргентины, вернулся по своей воле, не опасаясь ни полиции, ни кредиторов, ни отцов и братьев своих невест, и почил в Господе, который только тем и занимался, что прощал нам наши преступления, наши безумства и ошибки. Так вот и организовывались вокруг нас наше пространство и наше время. Время, которое текло в обратном направлении только к своим истокам. А пространство имело своим центром колыбель нашего рода, куда мы и возвращались умирать.
Как вы сами понимаете, замок моего отца и деда, его отца и его деда и их прадедов на протяжении веков и поколений наполнялся завещанным имуществом. Комодами-склепами, цилиндрообразными секретерами с круглой крышкой, столами с инкрустацией и лакированными столиками самой разной конфигурации и назначения, с ящичками и без оных, опускающимися и поднимающимися по желанию, коврами и гобеленами из Обюсона и Фландрии, портретами предков в рост при всех регалиях, небрежно опирающихся одной рукой на письменный стол, с письмом в руке, на котором четко выделялось священное слово: «Королю». Все это и еще много-много другого, что загромождало анфилады чердачных помещений, полных пыли и огромных сундуков, куда нам запрещалось прятаться и где за паутиной скрывались привидения предков, все это наносилось поколениями, сменявшими друг друга, подобно морским волнам. Продавать и покупать считалось занятием подозрительным, неосторожным и вульгарным. Монтень где-то хвалится, что ничего не приобретал и ничего не промотал. Мы тоже никогда ничего не покупали и никогда ничего не продавали. Все накапливалось постепенно в результате бракосочетаний и кончин, из приданых и завещанного. Мы тут были ни при чем — такие формы принимала наша элегантность. Наше богатство, как и наше имя, уходило во тьму веков.
Каждая нация, каждая семья, каждый человек живет мифом, украшающим его существование. Нашим мифом был замок. В нашей повседневной жизни замок играл огромную роль. Наверное, можно сказать, что он был воплощением нашей фамилии. Нечто священное связывало их. Наша фамилия как бы окаменела. Это были не просто стены, башни, огромный внутренний двор, спиральные лестницы, по которым король Франциск I поднялся верхом на коне, когда вернулся из плена в Павии, не просто рвы, заполненные водой, где плескались карпы, помнившие еще золотые деньки легитимной монархии. К замку еще прилегали поля и леса, создававшие ему прекрасное обрамление. Время от времени дедушка поднимался со мной на самую высокую башню. Замок возвышался над всеми окрестностями. Стояла прекрасная погода. Он показывал мне богатства, дарованные нам веками. Вдали виднелись Сен-Полен и Руаси. Вильнёв и кладбище в Русете, где нас всех хоронили. Бабушка любила повторять, что это исконно французская земля, а дедушка добавлял, что именно такие края воспели Ронсар, Лафонтен и Пеги. Я смотрел. Смотрел и видел милые сердцу поля, деревья и холмы. Этот уголок Франции принадлежал нам.
После Бога, короля и нашей фамилии был еще один персонаж, порой склонный к буйству, который тоже, случалось, наведывался в наш замок: это была Франция. Наши отношения с ней были довольно двусмысленными. Естественно, Франция была менее древней, чем наше родовое имя. Она была менее древней, чем король, скроивший ее из разных кусков. И была она также менее древней, чем Господь Бог. Но еще до великой бойни начала этого века один из моих дядюшек и два кузена отдали за нее жизнь не то на рисовых полях в Азии, не то в африканских песках. С Францией нас соединял не брачный союз. Мы были повенчаны с монархией и Церковью. А современная Франция была для нас чем-то вроде старой любовницы, к которой привязываешься лишь со временем, после многих бурных сцен и искупительных жертв, поскольку короля уже не было, надо было как-то с ней поладить. Мы не очень-то жаловали ни господина Тьера, ни Гамбетту, которого дедушка упорно величал Гранбетой, не лучше относились мы и к Робеспьеру и Жану Жаку Руссо. Впрочем, были в истории Франции и такие прекрасные дни, как времена маршала Мак-Магона и герцогини Юзес, чьи прогулки по Булонскому лесу даже столько лет спустя оставались излюбленной темой летних бесед под старыми липами, где вся семья собиралась пить кофе. Мы говорили о Франции столько всякого дурного, сколько было в наших силах, но при этом считалось хорошим тоном отправляться куда-нибудь погибать у нее на службе. Умереть за то, что заменяло собой короля, было в наших глазах скорее привычкой и ремеслом, чем проявлением любви или чувства долга.