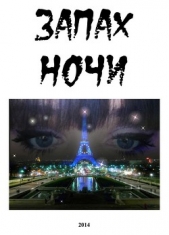Четыре семьсот пятьдесят

Четыре семьсот пятьдесят читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зуб у Сони выпал перед самым их отъездом в Анапу. Бросили через плечо, как учила его когда-то бабушка, со словами: “Мышка-мышка, возьми простой, дай золотой”.
– Зачем золотой? – подумав, спросила Соня.
Он только плечами пожал: в свое время этот вопрос не приходил ему в голову.
– Лучше обычный, костяной, – подытожила дочка.
Она сначала обрадовалась, что не стало во рту этой шаткой помехи, которую то и дело бодал неугомонный язык. А потом, сходив к зеркалу, огорчилась.
– Вон дырка какая. Ты меня, мама, в поезде не смеши. Некрасиво так, с дыркой.
Они с Викой рассмеялись до слез. Слишком уж строго высказала все это Сонечка.
Пальчик подняла – мол, смотри, смешить ни-ни.
– Не смешно, – с угрозой сказала Соня.
И, конечно, они еще громче рассмеялись.
А она расплакалась. Убежала к себе, вывалила все из шкафа, забралась вовнутрь.
Теперь вытащить ее оттуда можно только долгими переговорами. Или штурмом. Они с Викой успокоились, вздохнули и пошли в детскую.
– Сонечка-солнышко, – скреблась Вика в дверь шкафа. – Ну, на что ты обиделась?
Мы же не над тобой смеялись.
– А над кем еще?!
– Мы над твоими словами смеялись. Ты смешно это все сказала.
– Ага! А мои слова – это не я, что ли?!
Вика растерянно посмотрела на него – выпутывайся давай.
– Сонечка, – вкрадчиво начал он, не зная еще, чем закончит. – Понимаешь, если мы что-то делаем… или говорим… смешное, то люди смеются… в этом нет ничего обидного.
– А вот и есть! Если тебе обидно, то есть! – отчеканила Соня.
Вика толкнула его бедром: не умеешь – не берись. Он отступил, осторожно перешагивая через рассыпанные игрушки.
– Дочка, если ты будешь такой обидчивой, тебе трудно в жизни придется, – сказала она. – Нельзя так.
Соня замолчала.
– Что ты дуешься, Сонь? – предпринял он новую попытку. – Не будет мама тебя смешить в поезде.
– Ни за что, – подтвердила Вика.
Бесполезно. Если уж замолчала – все, как под воду ушла.
– Штурм? – спросил он Вику.
– Штурм.
– Нет! – крикнула Соня. – Не хочу.
Но было уже поздно. Родители распахнули дверцу, Юра поймал брыкающиеся ножки, Вика подхватила ее под руки – и поволокли, извивающуюся и вопящую, в спальню, на расправу. Бросили на кровать, навалились вдвоем, принялись целовать в щеки, в лоб, в дрожащий под футболкой животик.
– А я в нос, дайте-ка мне нос.
– И шейку не забудь, шейку!
Соня кричит им, чтобы перестали, что ей совсем не смешно, что она пока обижается, пока рано – но слова уже запинаются о первые трещинки смеха, разрушающие монолит податливой детской обиды. И вот она смеется – взахлеб, похрюкивая.
– Пап, мам, ну вы меня… вы меня затягусите до смерти совсем!
– Ничего, будешь знать, как на родителей обижаться.
Они стискивают ее с двух сторон. Соня кричит: “Ой-ей-е-о-о-й!” – и по-рыбьи глотает воздух. Выдавливает обессиленно:
– За-ду-ши-те!
– Будешь еще обижаться?
– Не буду! Клянусь! Не буду!
Да, нельзя деткам этого знать, никак нельзя…
Когда-то разомкнутся эти объятия. И мир станет другим. Переоденется из праздничного в повседневное, окажется суетлив и хмур. Стряхнув скорлупу родительских объятий, переселятся детки во взрослую жизнь, полную свободы и греха, затертую полутонами, похожую на путешествие по карте, в которой все наперекосяк. Но папа и мама навсегда останутся существами из другого мира, где линии божественно прямы, а любовь ежедневна, как еда и солнечный свет.
Провинциальные актеры, день за днем играющие небожителей в постановке приглашенной звезды. Актеры устают. Нелегко ходить по небесам, выстроенным из шатких конструкций.
– Будем заправляться?
Он обнаружил себя в машине на бензозаправке. Заправщик, которого он оторвал, видимо, от пересдачи смены, нетерпеливо наклонился к приспущенному окну.
– Да. Девяносто второго полный бак, – сказал он.
Колонка щелкнула и зажурчала, резко запахло бензином.
Было, у всех было. Да вот не стало.
Таня прислала ему длиннющую эсэмэску. В шесть приемов отправляла, получилась эсэмэска в шести частях. И все знаки препинания на месте. Такова уж Таня: все должно быть правильно. Вплоть до последней запятой в эсэмэске, отправленной любовнику. “Я поинтересовалась у нашего гида. Он толком не знает, но говорит, что наверняка можно добраться до Краснодара. Краснодар – это очень далеко от Балаклавы? Я так хочу к тебе, что благоразумия во мне не осталось совсем. Отпрошусь у директора – может, отпустит? Если нет – сбегу. Эпизод украсит презентацию на Страшном суде.
Предупредила Володю, что мне нужно будет уехать по делам, он обещал присмотреть за Женей, а за Володей присмотрит вожатый – есть тут один нормальный. Кстати, пристроился за мной ухаживать (хи-хи). Девочки из нашей группы подходят ко мне, спрашивают: Татьяна Викторовна, можно мы на станции выйдем за мороженым? Можно, говорю, только чтобы я вас из окна видела, иначе посажу под арест. А сама думаю: знали бы вы, милые, что сейчас в голове у Татьяны Викторовны. Впору самой под арест. Я совсем как девчонка! Мне от одной мысли, что мы встретимся, так хорошо!
Если не придумаешь чего-нибудь другого, можно и Краснодар. Договорились?”.
Ответил ей: “Договорились”, – и решил не думать об этом до завтра. Завтра он разыщет нужную карту – в книжном купит, там обязательно будет. Или вот как: Таня доедет до Крыма, вечером сходит на свою станцию, позвонит ему и расскажет, куда она сможет выбраться. Краснодар – слишком далеко для нее. Тяжело ей будет добираться. Но если всерьез сократить Танину часть пути, ему может не хватить денег на обратную дорогу.
Обязательно нужно ехать, решил он, а то и муж неверный – и любовник никудышный.
Иногда Юра думает, что у них с Викой все сошло на нет оттого, что такой чрезмерно-ослепительной оказалась любовь к ребенку.
Когда, в какой момент этот кукушонок вытолкал из сердца все, что гнездилось там до его появления?
Может быть, сразу – в первое их свидание в роддоме, когда ему сунули в руки кулек, чтобы отнес на кормежку: “Папаша, стойте! Сервисная палата? Нате, все равно туда идете”. У кулька были щеки, ресницы и нос. От растерянности, не понимая, что же теперь делать с этой дополнительной жизнью, без всякой подготовки выданной ему в узком многоголосом боксе, Юра наклонился и понюхал, а кулек распахнул синие глаза, безразлично посмотрел на него и с интересом – на горящую лампочку…
Или это приключилось позже? Когда все уже понимал, и душу мяло и выкручивало, как личинку, пытающуюся выпростать крылья… Тайком – тайком от Вики становился над спящей Сонечкой и плакал. О чем, почему? Юра не понимал, но и не хотел никаких объяснений. Смотрел на дочь и плакал, охваченный тоской и восторгом.
Вике он об этом не рассказал. Утаил.
В перерыв позвонила мама. Он даже вздрогнул, когда услышал:
– Сынок, ты не мог бы меня в Москву отправить? А то тетя Люда приглашает к себе на дачу, а я совсем без копья.
Промямлил:
– Это срочно? Тебе когда нужно?
– Ты что, болеешь? Голос какой-то…
– Да здоров я. Ресурсы подсчитываю.
– Нет, ты если не можешь, скажи, я не обижусь. На следующий год, может, съезжу.
– На следующий год?
– Просто тетя Люда еще когда звонила, приглашала. Я сначала отказалась, а теперь же школу нашу на ремонт закрывают, на работу до сентября не нужно. Вот я и подумала… Я бы на любом, самом дешевом, в плацкарте… Я узнавала, самый дешевый – семьсот пятьдесят. Ну, нет так нет. А в гости к тебе можно? Соскучилась.
– Конечно, приезжай. Когда ждать? Я дома часов в семь.
– Значит, в семь.
Они редко видятся. Все реже и реже. Мама с Викой не общаются. Никак. То есть совсем. Сначала общались, а потом общение свелось к немногословному противостоянию, в котором слова лишь отмеряли порции ядовитой тишины. “Добрый день” – “Здравствуйте”, а звучит, как удары набата. Вникнуть в причины священной войны двух женщин ему не дано. Похоже, они просто друг другу не нравятся. Ну, не нравятся. Чем не причина? “Я так больше не могу”, – говорила ему каждая из них. Но ни один ультиматум не включал никаких условий: придумай сам что-нибудь. Он придумал. Разрезал свою жизнь берлинской стеной. Теперь по одну сторону – жена и дочь, по другую – мать.