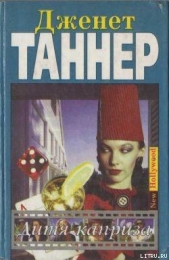Другая
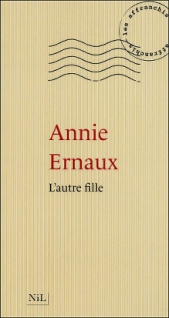
Другая читать книгу онлайн
Книги данной серии, задуманной и осуществляемой Клер Дебрю, публикуются со штемпелем « Погашено»; таким на почте помечают принятое к отправлению.
Когда сказано всё, до последнего слова и можно, как говорят, перевернуть последнюю страницу, остаётся одно — написать другому письмо.
Последнее, однако, связано с известным риском, как рискован всякий переход к действию. Известно же, что Кафка своё Письмо к отцупредпочёл отложить в дальний ящик стола.
Написание того единственного письма, письма последнего, сродни решению поставить на всём точку.
Серия Погашенопредъявляет авторам одно единственное требование: «Пишите так, как если бы вы писали в последний раз»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(Нескончаемый, спонтанный отбор памятью из множества когда-либо встреченных людей схожих лиц — в поисках такой же неразлучной пары, как половинки с игральных карт — подталкивает меня сравнивать её с директрисой летнего лагеря в Имаре, что неподалёку от Руана, где в пятьдесят девятом довелось мне работать воспитателем: тотемом лагеря являлся муравей, и все ходили в белом и бежевом).
Реальности той сцене более всего придаёт моя чувственная галлюцинация: всякий раз, припоминая её, я ощущаюсебя бегающей вокруг этих двух женщин, вижумелькающий под моими ногами галечник улицы, закатанной в асфальт лишь в восьмидесятые годы, откос, рабицу забора и слабеющее, словно вбирающее в себя все краски освещение и усиливающее, тем самым, эффект происходящего.
Не могу в точности датировать тот воскресный летний день, но связываю его всегда с августом. Лет этак с двадцать тому назад, перечитывая « Дневник»Чезаре Павезе, я открыла для себя тот факт, что он покончил с собой в одном из отелей Турина 27 августа 1950 года. Я тут же сверилась, и оказалось, что тот день выпадает на воскресенье; с тех пор мне кажется, что речь идёт об одной и той же дате.
Год за годом я удаляюсь от неё, но это аллюзия — нет между нами времени, одни лишь слова, и нельзя что-либо изменить.
Милая… мне кажется, я даже знала, что слово это не может быть употреблено на мой счёт вместе с теми, что каждодневно доставались мне в награду от родителей за поведение: оторва, жадина, всезнайка несносная, кокетка чертова, задира, племя бесовское. Только упрёки их, омываемые надеждой на то, что я любима, подтверждением чему служили бесконечные их хлопоты обо мне, забота и подарки, стекали с меня как с гуся вода. Единственная, потому и избалованная дочь, без каких-либо усилий всегда лучшая в классе, я чувствовала за собой право быть такой, кем была.
Милая… вот кем уж я точно не прослыла пред очами Господа, о чём и объявил мне аббат Б. в первое же моё причастие, по достижении мною возраста семи лет, на котором я честно созналась в «недостойных поступках по отношению к себе самой и к другим», расцениваемых сегодня, как нормальное пробуждение сексуальности — он же предрёк мне прямёхонький путь в ад. Почти то же предскажет мне потом и директриса пансионата, пронзая меня яростным взором: « можно получать по всем предметам высшую оценку и не быть при этом приятной Всевышнему». Меня не влекли внешние проявления теизма, Бога я не любила, боялась его, о чём никто не догадывался. Я упрямо молчала, коленопреклоненная перед огоньком красной лампады, когда она нашёптывала мне на ухо грозный приказ: « молись Господу нашему милосердному, как следует, авось простит», воспринимаемый мною как глупость, недостойную всемогущей матроны, какой она была для меня сама.
Милая… это же то же самое, что и ласковая, нежная, любящая, а ещё — в Нормандии так говорят о собаках — дружелюбная. Державшаяся от взрослых на расстоянии, предпочитавшая разглядывать и слушать их, а не обнимать, вряд ли я могла сойти за такую. Но с ними обоими я была уверена в себе, как никто.
Шестьдесят лет спустя я всё также спотыкаюсь об это слово, тону в хитросплетениях его толкований в отношении тебя; всякий раз обращенное ко мне, вместо тебя, пронзает оно меня болью. Между ними и мной всегда невидимая, но обожаемая ты, а я оказываюсь отстранённой, отодвинутой с твоего, предназначенного именно тебе места, задвинутой в тень, тогда как ты продолжаешь парить в горнем свете вечности. Это я то, несравненная, единственная в своём роде! и, вдруг, сравниваемая…
Реальность, это всегда и всего лишь сказанное слово; это система взаимоисключений: да — нет, больше — меньше, до или после.
Быть или не быть, жизнь или смерть…
Между мной и мамой всего два слова, мною же и написанные; ей вопреки и всё же для неё, гордой и смиренной труженицы — « милее чем…». Я спрашиваю себя, а не она ли и дала мне право, или даже наказ, не быть такой же — милой. Но в то воскресенье я обхожусь без обычной своей мрачности, в день откровения «обо всём и начистоту» я именно такая — милая.
В свои двадцать два, после очередной весьма жаркой застольной беседы с ними, я сделал запись в своём дневнике: «Ну почему всегда одно и то же: мне хочется причинить им боль, но от этого лишь я, сама, и страдаю?»
Тому, что случается в детстве, нет имени. Не припомню всех ощущений самой себя той поры, но жалости к себе я не испытывала. Ближе — подозрение на облапошенность, но словечко это появилось у меня много позже, по прочтении Бовуара, а потому кажется и оно тоже не к месту. Не достаёт ему основательности, приземлённости, не годится оно для описания сущего из моего детства. После долгих размышлений, как самому верному для этого, неопровержимо верному, отдаю я предпочтение слову надувательство, то бишь одурачивание, до смерти оскорбительное слово. И оказалось, что жизнь моя была иллюзией, что никакой я единственнойне была, была и другая, явившаяся из безвестности, как из-под земли. И вся безграничность их любви ко мне, тем самым, оказалась ложью. Мне даже кажется, что слова в упоминание о том, что ты ушла к святой Деве и доброму Боженьке, вызывали у мне к тебе неприязнь. Те слова выявляли всю мою несостоятельность перед Господом, потому как ни разу не слетело с моих уст имя его, никогда не хотела я встречи с ним. Позже, уже взрослой, выводило меня из себя, едва не доводя до ярости, её желание заставить во все эти глупости верить тебя. Теперь та ярость во мне угасла, я сжилась с мыслью, что всё перевешивают их слова утешения, колыбельные и молитвы, которыми сопровождала она покачивания твоей колыбели, и потому предпочитаю думать, что ушла ты из жизни счастливой.
Если верить кузине Ж., правда о твоей смерти и твоём существовании стала для меня явью годом или двумя раньше, и благодаря другой кузине, С. Я готова согласиться с тем, что именно той хвастунье и следует отдать пальму первенства в ознакомлении меня со всем ранее мною непознанным; доподлинно помню, что в секреты секса меня посвящала именно она, хотя будучи всего лишь тремя годами старше вряд ли знала о том больше моего; подробности те, слаба Богу, память не хранит, заслоняет всё, и до сих пор, неизменно сиявшее там солнце, из безвозвратно утерянной той поры.
Может, и признанию существования твоего я противилась оттого, что предпочитала: лучше бы его не было и вовсе.
Может, и пишу-то я тебе от того лишь, чтобы тем самым воскресив, вновь затем убить…
И вот, задаюсь теперь вопросом, а не было ли там и тебя со мной, послеобеденной той порой, того самого лета, за год или два до этого повествования… я в саду, пишу рассказ о некой, коротавшей лето в деревне девчонке, уснувшей в одной из копён соломы, разбросанных после жатвы по окрестным полям, и случайно в ней задохнувшейся.
Рассказ тот я заставила прочесть отца; от изумления перед моими успехами, он на глазах у всех клиентов чрезмерно, по-моему, но поохал. Как и она, тоже… не помню только, что при том говорилось.
Продолжаешь ли ты пребывать в той мечте, в которой пребывала я с пяти и до десяти лет — я в кроватке под розовым балдахином, вместе с малышкой Ж., беженкой из Гавра, перебравшейся с родителями в Лильбонн в сорок четвёртом, любимой подружкой по забавам в городском саду, с радостью обретаемых мною каждое лето, и наш совместный сон собирает вместе наших родителей. Вспоминаю нас, похожих на кукол с незакрывающимися глазами, прижавшихся в той колыбельке друг к дружке — образчик безоблачного счастья.
(В письме к матери, в восемьдесят шестом, я напомнила ей о том «розовом счастье». Но в книге о нём ни слова, поскольку нет и у меня уверенности в его значимости; весьма оно нарочито, интересно мне одной, да и то, видимо, лишь как ностальгия по вышедшему из той же, что и я утробы существу).