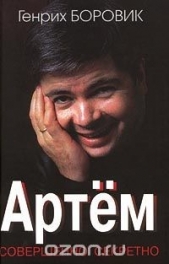а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они стояли в три ряда от стены до стены и узкий проход посередине делил их нáшестеро.
Мы садились за них, переступая через прибитые к полу лавки.
Среди оживлённого шума и раскованных жестикуляций мы ждали пока вечно дежурный белобрысый мастурбант принесёт широкий фанерный поднос с алюминиевыми мисками, ложками и хлебом.
Те, кому досталось – начинали есть, а остальные смотрели и ждали дальше, пока чмо-раздатчик, тоже из больных, наполняет за окошком следующий поднос.
Мы съедали всё и начинали ждать поднос уставленный кружками с тягучим кисло-сладким киселём, чью пенку я так ненавидел в детстве.
Один раз я проспал в палате и мне пришлось есть с третьей сменой.
Тяжкое зрелище.
Там люди обращаются со своими лицами как с пластилином, выкорёживая что попало.
Зато я узнал кто издаёт крики бабуина, когда я лежу в своей палате, и кто отвечает ему рёвом раненного слона.
Членораздельных разговоров в третью смену не ведут.
Иногда, правда, кто-то из второсменников замешивался в третью партию и вовсе не из любви к живой природе – они успевали съесть пайку соседа, пока тот корчил рожи оконной решётке.
Саша, знавший моего брата Сашу, односторонне дружил с контингентом третьей смены и часто ел с ними как раз для обуздания таких полоумных, но хитрых нахлебников.
Эти трапезы были самым шумным временем суток в пятом отделении.
Если кто-то начинал чересчур шуметь в неурочный час, к нему сбегались пара медбратьев и, огрев связкой ключей по голове, фиксировали.
То есть, распинали в лежачем положении, привязывая его запястья и щиколотки к железным уголкам вдоль сетки койки с помощью полос белой ткани, явно из бывших, пожелтевших от употребления простыней.
Поев, все расходились по своим палатам или прогуливались неспешными парами по коричневой плитке коридорного пола.
Не скажу, что мы там голодали – хавка, как хавка.
Один раз на ужин раздали даже по два оладья. Пусть хоть холодные и без хлеба, они были смазаны каплей какого-то джема.
Отдельной строкой стоит непостижимый пир горой, случившийся однажды в холле поздно вечером – откуда-то появились два бельевых таза с колбасой: в одном ливерка, в другом кровянка и кто сколько хотел, столько и брал. За исключением пары третьесменников, на которых тоже вдруг напало просветление – банковавший на пиршестве толстяк-больной отгонял их от тазиков.
Дискриминация случается где угодно.
Но главную усладу в жизнь отделения вносила статная льноволосая медсестра в наволочке от подушки, через которую угловато бугрились куски сахара рафинада.
Эту наволочку она заносила в кабинет «старшая медсестра» и каждый день, кто догадывался зайти и попросить, получал несколько кусочков не прессованного, а настоящего рафинада.
Я, например, догадывался по два раза на дню.
Есть сахар приходилось неприметно, потому что те, кому не хватало ума обратиться к первоисточнику в наволочке, догадывались просить у меня.
Я пытался соврать, будто кончился, но вспомнив, что это неправильно, делился из второго кармана пижамы.
Раз в двадцать дней в холл посреди коридора приходила черноволосая женщина с тонким носом и, конечно же, в белом халате.
Сразу чувствовалось, что она из породы стеклянноглазых, но я с этим уже завязал и поэтому принимал версию больных-старожилов, будто это бывшая цирковая акробатка.
Акробатка машинкой состригала нам щетину с лиц, а ножницами делала причёску, если не попросишь, чтоб и голову тоже «под ноль».
Культурную жизнь обеспечивал телевизор – час до и час после программы «Время», с перерывом на процедуры.
Он собирал человек десять зрителей, что притаскивали табуреты и стулья из своих палат; медбрат от палаты наблюдения тоже придвигался поближе.
На ночь в палатах включали свет. Наверное, чтоб никто ничего себе не сделал, или соседу.
Спать при свете неудобно, потому что если даже и гуляешь во сне на воле, то и там чувствуется эта неугасимая лампочка.
В коридоре свет горел не так ярко, чтобы дежурные медбратья могли нормально отдыхать в своих креслах.
Часам к двум ночи в девятую палату захаживал молодой хлопец – показать как ловко он жонглирует парой варёных яиц из передачи.
Иногда он показывал небольшую, но мастерски исполненную жанровую картинку, где голый мужик сосредоточенно бежал за девкой в одних сапогах и кокошнике; та на бегу взмахивала длинной туго заплéтенной косой и испуганно оглядывалась на метровый член целеустремлённого преследователя.
Судя по всему – копия с оригинала первой половины XIX столетия.
Уводить хлопца приходил щуплый мужик с неуловимыми глазами.
По его неоднократному рассказу, в психушку он попал за стёкла в сельсовете, которые нечаянно разбил палкой; все, сколько было.
Он целовал хлопца в темечко под неотросшими волосами, называл «мнемормышем» и уводил обратно в свою палату.
Он всех молодых хлопцев целовал в темечко, даже совсем чокнутых, и каждому говорил «мнемормыш», я никогда раньше такого слова не слыхал, но звучит ласково, как «тюленёнок».
Медбратья объявляли подъём стуча своими связками ключей по спинкам коек, чтобы к приходу заведующей и медсестёр жизнь уже текла обычным руслом.
Первым делом все стекались в туалет.
2 унитаза на 80 человек слишком мало!
2 унитаза на 80 человек слишком мало, поэтому очередь начиналась ещё в коридоре, а внутри она продолжалась вдоль стен двух комнат – прихожей и, собственноо, туалета.
В первой из них со мной впервые в жизни случился обморок. Совершенно ни с того, ни с чего.
В глазах потемнело и я сполз спиной по стене на пол и сидел там в сгустившейся вокруг темноте, однако, полностью не отключился и слышал эхо дальних голосов, которые объясняли друг другу, что это у меня обморок.
Потом стало светлеть, я открыл глаза и вернулся в очередь.
ля тех, кому совсем невтерпёж, за два метра не доходя до унитазов на плитках пола поставлен жестяный таз с ручками. Когда он наполнялся, говно руками вылавливали в отдельное ведро, чтобы затем вылить в унитаз, а оставшуюся мочу сливали в трап в углу.
Засидеться не получалось, потому что, выждав определённую квоту времени, ближайшая очередь начинала роптать, а когда нарекания учащались, какой-нибудь глухонемой из конца очереди сдёргивал тебя с унитаза без объяснения причин.
Туалет запирали перед началом завтрака и до окончания обеда, потом дверь его открывали на непродолжительное время, пока там мылся пол.
Последняя помывка приходилась на заключительные полчаса после ужина.
Рассеянный образ моей предыдущей жизни не позволил мне вышколить свой мочевой пузырь в достаточной мере, чтоб соответствовать такому расписанию.
Ощутив позывы, я впадал в панику, что не дотерплю до следующего получаса открытых дверей.
Обращаться к медбратьям, в связке которых имелся вожделенный ключ, не имело смысла; ответ один и тот же:
– Иди отсюда! Туда нельзя – там помыто.
Чтоб не получить по голове всей связкой приходилось слушаться.
Однажды, доведённый до отчаяния, я попытался помочиться в раковину в конце коридора и получил по рёбрам от больного, который часто курил там втихаря, любуясь раковиной, как фонтаном парка на ремонте.
Во время другого кризиса, преодолев стыд, я обратился к пожилой медсестре с ключами, пытаясь поделикатней объяснить свою нужду и бедственное положение.