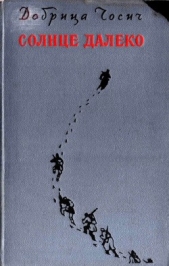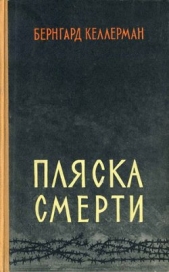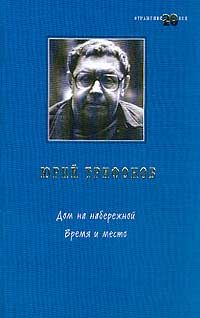Время смерти

Время смерти читать книгу онлайн
Роман-эпопея Добрицы Чосича, посвященный трагическим событиям первой мировой войны, относится к наиболее значительным произведениям современной югославской литературы.
На историческом фоне воюющей Европы развернута широкая социальная панорама жизни Сербии, сербского народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
*
Мои башмаки в самом деле забрызганы кровью. И что-то белое, жирное пристало к шнуркам. Как же не думать?
*
От холода и переутомления не могу уснуть и занимаюсь воспоминаниями. Вспоминаю свое детство и юность. Свои страдания из-за того, что кое-кто из ребят меня не любит. Что в классе у меня было только три искренних друга, хотя почти все списывали у меня математику и французский и, начиная с пятого класса, на вопрос преподавателя «Кто знает?» я ни разу не поднял руку, чтоб не прослыть подхалимом и маменькиным сынком. Хотя я никого не продавал классному надзирателю, хотя я никого не оскорбил, хотя я исполнял просьбу любого, о чем бы меня тот ни просил, хотя я был с классом в каждой истории, хотя…
Очень часто домой я возвращался побитым. Однажды в отчаянии даже спросил у мамы: «Почему люди не любят тех, кто не причиняет им зла?» — «Потому, сынок, что добрые не похожи на всех остальных», — ответила она, не задумываясь. «И все-таки, мама, не будет так, чтоб все люди были злые», — возразил я достаточно уверенно.
Мама промолчала, и мне запомнилось ее молчание.
Отца я об этом не спрашивал, опасаясь его ответа.
Болит голова от голода. Ноги заледенели, не чувствую ступней. Снег засыпает. С рассветом неприятель пойдет в атаку, а у меня в голове засело, что ты думаешь, отец, об этом:
Почему люди не любят тех, кто не причиняет им зла?
*
Выдержать с честью все — что может быть большего в жизни.
*
Отец, я очень жалею, что в Крагуеваце при нашем прощанье, когда ты рассказывал о своем отце, я не спросил: хотелось ли тебе когда-либо не быть ничьим сыном, не иметь отца?
В начале второго полугодия в восьмом классе, я отчетливо помню, мы сидели за обедом, и ты как-то очень ожесточенно ругал народ, а мне вдруг захотелось тебе сказать: «Вукашин Катич, господин Катич, мы с вами не состоим ни в каком родстве! Я совершенно самостоятельный организм. Признаю, что меня родила мать, но моя благодарность за любовь и заботу не превосходит границ буржуазной вежливости». В те дни я верил, что не существует подвига воли, равного отрицанию своего происхождения, этого пожизненного груза почитания, этого вечного долга любви, благодарности и тому подобного. Я записывал в дневник что-то вроде: «Кто обладает силой не быть сыном, тот способен овладеть миром… Спасителем мира может быть лишь тот, кто не есть сын. Христос оказался несостоятельным, потому что он представлен сыном». Той зимой и весной я читал «Жизнь Иисуса» Ренана и содрогался над идеей божьей отцовской жертвы сына, — этой основополагающей, я убежден, губительной идеей христианства, которая морально оправдывала все жестокости последующей истории. Я размышлял о боге, сын которого, распятый вместе с разбойниками, подвергался издевательствам солдат Помпея, был оплеван толпой, и мне не удалось понять смысл этой жертвы. Жестокость и немилосердность — это было и осталось главным в моем восприятии бога-отца.
А слово «отец» ведь содержится и в понятии «отчизна». Я не любил этого сербского слова. Погибать за землю отцов? В этом я видел принуждение, обязанность, гнет. Это значило погибать за прошлое. Более человеческое слово — родина. Хотя и оно скукоженное, нищенское. Домишко, дым из трубы, а вокруг забор… Это понятие отечества и родины непременно необходимо заменить чем-то более широким и личным.
Вот и связной! Наверняка несет приказ об атаке. Хорошо, что придется прекратить записи, потому что я запутался, многое надо было бы сказать иначе. А ты любишь отточенную мысль. И по возможности меньше прилагательных во фразе. Слова — обманщики, не так ли, отец?
*
Нас оставили прикрывать отход дивизии. Без приказа нельзя отступать. А меня по-настоящему любили только мать и сестра.
*
Стараюсь, чтобы у меня не угасли те желания и цели, с которыми я пришел в казарму в Скопле. А они угасают. Что будет, если я останусь без них?
*
Сегодня в каком-то бедняцком доме я украл чернослив, набил полные карманы. И еще кое-что я украл.
*
Мир я себе представляю как ничем не нарушаемое лежание в моей «детской» комнате, где на столе — книги. Лежать в чистой постели, спать, спать! Бездельничать, прочитывать по нескольку страниц и размышлять о них, выпивать чашку молока, которую приносишь ты, мама, и опять спать. В тишине… С закрытыми ставнями и опущенными шторами. И только в сумерках я буду выходить на короткую прогулку. Иногда с Миленой, чаще — в одиночестве.
Мама, в душе у меня возникает и струится печаль, которой я буду жить после войны, которой буду дышать и которую буду пить, которая даст мне успокоение… Дивная, чудесная возможность быть печальным!.. Иметь условия для того, чтобы честно и преданно жить своей грустью. Я так устал и измучен бессонницей, что страдание — это единственное, чего я могу желать после войны. И оно будет у меня, стоит мне вспомнить этот еловый лес под снегом и ветром. И то, что с нами здесь происходило…
*
Кашляю, легкие разрываются. Болит голова. Если я разболеюсь, что со мной будет?
*
У меня появилось желание написать письмо самому себе — вернувшемуся с войны. Мне захотелось сказать себе, как нельзя жить в условиях мира, чего нужно бояться и что я должен позабыть о войне, чтобы не оплевывать людей. Мне хотелось еще кое-что передать себе, но сон меня одолел, и я уснул, уткнувшись головой в эту тетрадку.
*
Нищета. Мерзость. Безнадежность. Но в этом и наше величие. Свою блевоту в Скопле я никогда не смогу забыть. Никогда.
Вчера в сумерках, ожидая швабской контратаки, я думал о том, что Богдан Драгович называет «счастливым будущим», и удивлялся человеческому легковерию: как можно провести жизнь среди счастливых людей? Впрочем, я убежден в том, что и эти «счастливые люди» вернулись бы к людоедству!
Мой военный до сих пор опыт: мы добры настолько, насколько страдали и насколько нам страшно страдание.
*
Мати моя, что-то побуждает меня сегодня ночью, после нашего тяжелого поражения и после того, как мои солдаты украли у меня из ранца кусок галеты и несколько грецких орехов — единственное, что у меня было на ужин и на завтрак, — если я не замерзну в этом буране, что-то побуждает меня сказать тебе, как в течение двух или трех лет меня мучило подозрение, что твоя любовь ко мне не всегда была самым большим чувством. А если правду сказать, мучило меня то, что целую неделю ты не любила меня.
Мне было девять лет, я окончил второй класс, стояло лето, и мы с Миленой играли в казаки-разбойники у нас в саду. И пока я, скорчившись, прятался в кустарнике, услышал, как ты рассказывала госпоже Персе Проданович, что, когда ты меня носила, тебе хотелось, чтобы первым ребенком была девочка. Но боялась говорить об этом в присутствии папы и деда Тодора. И по-настоящему ты полюбила меня лишь спустя неделю после рождения, когда на меня напала какая-то желтуха. Мне не удалось услышать, почему тебе захотелось, чтобы первым ребенком была девочка, потому что выбежала Милена и завизжала от удовольствия. С тех пор начались мои страдания и я стал подслушивать твои разговоры с приятельницами. А когда ты обнимала меня, мне всегда хотелось спросить тебя, именно в эти минуты нежности: «Мама, скажи, почему ты целую неделю меня не любила? Почему ты хотела, чтобы первым ребенком, то есть мною, у тебя была девочка?»
Сейчас на войне, на Сувоборе, я верю: от страха перед войной ты не хотела иметь сына.
*
Мы отдохнули, наелись, отоспались. Мы верим в победу. Однако нашей вере не следует искать причин. Существует сербская вера. Крестьянская и солдатская.
*
Мы пошли, говорят, в наступление. На самом деле это означает: мы лезем на Сувобор, чтобы погибать, сначала всползая вверх, потом на его гребне и затем в стремительном спуске вниз. Генерал Мишич и командир моей дивизии все это, разумеется, понимают иначе. Здесь, на фронте, я часто думал о генерале Мишиче и вспоминал, о чем он разговаривал с папой. И никак у меня не совмещался образ моего и Милениного «дяди-генерала» с командующим Первой армии, солдатом которой я являюсь.