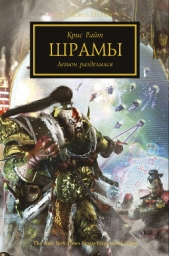Любимая игра
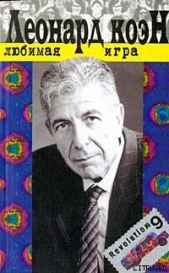
Любимая игра читать книгу онлайн
«Любимая игра» была написана в 60-е годы, и в ней без ущерба друг для друга соединились романтика битников и стройно изложенная история любви и взросления юного монреальского раздолбая не без писательских способностей по имени Бривман. Подано внятно и трогательно. А местами даже смешно.
Коэн пишет – как поет. Тех, кого зачаровывает его ленивая хрипотца нисколько не разочарует его литературный стиль, лирический, но сильный и честный в своей безыскусности. Мир под воздействием его слова переплавляется на глазах в нечто гораздо более красочное, естественное и непритворное, в мир, где хочется жить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На такой скорости они ни с чем не были связаны. Могли перепробовать все возможности. Они проскакивали мимо деревьев, что росли уже сотню лет. Прорывались сквозь города, где люди проживали целые жизни. Они знали, что эта земля стара, горы – самые древние на планете. Все это они пролетали на скорости восемьдесят миль в час.
Было в их скорости что-то надменное – презрение к миллиардам лет, за которые сгладились горы, к поколениям мускулов, очищавших поля, к труду, что ушел в современную дорогу, по которой они катили. Они это презрение сознавали. Должно быть, варвары скакали по римским дорогам с таким же чувством. Сейчас власть у нас. Какая разница, что было раньше?
И было в их скорости нечто пугающее. Позади, в городе, лозами росли их семьи. Любовницы учили грустить, уже не лирично – удушающе. Взрослое общество настаивало на том, что из вереницы прекрасных абстракций им двоим требуется избрать уродливую частность. Они улетали от их большинства, от настоящей бар-мицвы, настоящей инициации, настоящего и порочного обрезания, которыми грозило общество, навязывая им ограничения и бестолковую рутину.
Они кротко беседовали с французскими девушками в забегаловках по дороге. Те были такие жалкие, болезненные и со вставными зубами. Через двадцать миль они будут забыты. Чем они заняты среди арборитовых прилавков? Мечтают о неоне Монреаля?
На шоссе было пусто. Они мчались по нему одни, и мысль об этом сделала их более близкими друзьями, чем когда-либо прежде. Бривман ликовал. Он говорил: «Кранц, единственные наши останки, которые обнаружат, – полоса масла на полу в гараже, даже без радуги». Последнее время Кранц был очень тих, но Бривман был уверен, что он думает о том же. Все, кого они знали, кто их любил, спали за много миль от их выхлопа. Если по радио передавали рок-н-ролл, они постигали его страстную жажду; если Генделя – осознавали величие.
В этих поездках Бривман в какой-то момент делал себе такое предложение: Бривман, ты годишься для множества разнообразных переживаний в лучшем из возможных миров. Там множество прекрасных стихотворений, которые ты напишешь и обретешь славу, множество одиноких дней, когда ты не сможешь поднести ручку к бумаге. Будет много чудных сук, на которых можно лечь, ты станешь целовать кожу разных цветов, испытаешь многообразные оргазмы, и множество ночей, когда пренебрежешь своей похотью, горькой и одинокой. Будет множество вершин эмоций, ослепительных закатов, вдохновенных открытий, творческой боли, и множество убийственных плоскогорий равнодушия, где тебе не будет принадлежать даже твое собственное отчаяние. Будет много отличных сильных карт, которые можно будет разыграть жестоко или добросердечно, множество громадных небес, под которыми лежать и радоваться своему смирению, множество поездок на галерах в удушающем рабстве. Вот что тебя ждет. И теперь, Бривман, предложение таково. Предположим, ты можешь провести остаток жизни точно так, как в эту самую минуту, в этой машине, мчащейся в страну кустарника, остановившись по дороге именно здесь возле ряда белых столбов с указателями, вечно пролетая эти столбы на восьмидесяти в час, под эту механическую песню, нагнетающую отторжение, под этим именно небом с облаками и звездами, в голове твоей – вот этот сиюминутный разрез памяти – что ты выберешь? Еще пятьдесят лет такой автомобильной поездки или еще пятьдесят лет побед и падений?
И Бривман никогда не сомневался, делая выбор.
Пусть все продолжается, как сейчас. Пусть никогда не снижается скорость. Пусть останется снег. Пусть я никогда не лишусь этой близости к другу. Пусть мы никогда не найдем себе разных занятий. Пусть никогда не станем оценивать друг друга. Пусть луна замрет на одной стороне дороги. Пусть девушки станут у меня в мозгу золотой кляксой, будто лунная дымка или неоновый свет над городом. Пусть электрогитары вместе продолжают пульсацию под заявление:
Пусть контуры холмов будут готовы вот-вот проясниться. Пусть деревья никогда не опушатся листвой. Пусть черные города спят одну длинную ночь, как любовник Лесбии [51]. Пусть монахи в полуотстроенных монастырях остаются коленопреклоненными на заутрене. Католическая молитва. Пусть Пэт Бун [52] остается на верхотуре хит-парада и все рассказывает ночным фабричным сменам:
Пусть снег всегда облагораживает автомобильное кладбище по дороге к Айерс-Клифф. Пусть заколоченные лачуги яблочных торговцев никогда не покажут ни глянцевых яблок, ни намеков на сидр.
Но дайте вспомнить, что я помню о садах. Дайте сохранить мою десятую долю секунды достойной фантазии и воспоминаний, когда я открываю все слои, будто геологическую пробу. Пусть «кэдди» или «фольк» летит, как заклинание, пусть мчится, как бомба, пусть взорвется. Пусть рекламная пауза вечно ждет конца мелодии.
Великолепная новость. Новость грустна, но она в песне, так что все не так уж плохо. Пэт за меня пишет все мои стихи. У него есть строки для миллионов. В них все, что я хотел сказать. Он выпарил печаль, возвеличил ее в эхокамере. Не нужна мне пишмашинка. Это не та часть багажа, про которую я вдруг вспомнил, что забыл ее. Никаких карандашей, шариковых ручек, блокнотов. Я даже не хочу рисовать по мути на лобовом стекле. Я мог бы в уме составлять саги всю дорогу до Баффиновой Земли [53], но записывать их мне не нужно. Пэт, ты слямзил мою работу, но ты такой отличный парень, старорежимный американский счастливчик, наивный победитель, что это нормально. Люди из пресс-службы убедили меня, что ты скромняга. Не могу на тебя обижаться. Единственное мое замечание: будь отчаяннее, постарайся звучать неистовее, или нам придется найти тебе на замену негра:
Не позволяй гитарам замедляться колесами локомотива. Не позволяй парню с CKVL [55] сообщить мне, что именно я только что слушал. Сладостные звуки, не гоните меня. Пусть слова текут, как пейзаж, из которого мы никогда не вырвемся:
Хорошо, пусть держится последний слог. Вот она, десятая доля секунды, на которую я променял все президентства. Телеграфные столбы играют с торопливыми проводами в замысловатую игру «веревочка». Снег Красным морем расступился по обе стороны от наших крыльев. Нас не ждут, о нас не скучают. Все наши деньги мы заливаем в бензобак, мы жирны, как верблюды в Сахаре. Летящая машина, деревья, луна и ее отсветы на снежных полях, уходят на покой дробные аккорды мелодии, – все балансирует в совершенстве перед быстрой заморозкой, чтобы стать вечным экспонатом в астральном музее.
Прощайте, мистер, любовница, рабби, доктор. Пока. Не забудьте свой дипломат с образцами приключений. Мы с другом – мы остановимся прямо здесь, по нашу сторону скоростного лимита. Правда, Кранц, правда, Кранц, правда, Кранц?
– Хочешь, остановимся, съедим гамбургер? – говорит Кранц так, будто размышляет об абстрактной теории.
– Сейчас или как-нибудь на днях?