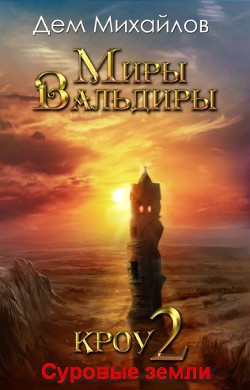Тяжесть

Тяжесть читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Растоптанная мириадами деревьев заря на наших глазах умирала, не родившись, и день приходил, белый, возникающий отовсюду. В шесть часов утра, сгруппировавшись на околице села, маленькие, все повидавшие, туго набитые автобусики расползались по тайге.
Работать электропилой «Дружба» научились быстро: через несколько дней почти каждый мог быть с грехом пополам и вальщиком, и помощником вальщика, и щикеровщиком. Осокин в первый же день рявкнул, что мы не на курорте и будем работать по двенадцать часов в день с одним выходным. Работали с ленцой, по-трое: я вгрызался «Дружбой» в стволы, Свежнев, выбив «козырек» из ствола, ждал с длинным острейшим топором, пока от стона сосны или кедра не громыхнет земля, и шел рубить ветки; третий, Женя Топоршков, тупой и хитрый парень из-под Воронежа, просовывал под ствол трос и звал трактор. Таежный гнус набрасывался на нас с необычайной жадностью, комары пробивали носами гимнастерки, мазь не помогала. Мы пухли, как с голодухи, на глазах.
Иногда приезжал Осокин, всегда пьяный, садился на ствол и подгонял нас, рвал перекуры. Это было ошибкой: народ Сосновки невзлюбил его — никто не любит, работая, видеть возле себя праздношатающихся. Ему едва отвечали с сухой неохотою, смотрели мимо. Осокин стал еще больше пить и злобиться.
Только в безветрие, когда можно спокойно наблюдать за уклоном и градусом падения ствола — таежная страда. Мы убедились в этом через несколько дней. От бегающего тумана воздух того утра казался белым, чернота тайги виделась рваной дыркой в чистом грунтованном полотне. У околицы ждал лишь один автобусик с Осокиным за рулем. Над этой необычностью задумались уже на полдороге, когда углубившись, пройдя неприкосновенную зону, спокойно пыхтевший драндулет, плавно ныряя в колдобины, огибал кладбища леса, стволами глядевшие поверх растоп-танных кустов. Делянка была пустой, резкий комариный гул, обычно заглушаемый воем пил, неприятно подтверждал ощущение чужеродности нашего появления. Осокин, едва размежив опухшие глаза, твердо проворчал:
— И чтоб была работа, я проверю. Провинившимся одна дорога — в часть.
Уехал. Никто еще не понимал, что произошло. Все разошлись по местам, с грустью погляды-вая на пустой склад, где обычно работали женщины-сучкорубы. Первоначальное предположение, что сосновчане взяли себе выходной, испарилось в качающихся стволах. Неслышный, неощуща-емый внизу ветер тряс верхушки сосен, елей, дрожь издевательски шла по стволу вниз ко все углубляющемуся порезу, переходила по пиле в руки и, завоевывая тело, толкала страх к истерике. Руки остановили движение пилы дальше, чем на половине ствола. Дерево бесилось, словно сопротивляясь смерти, и угрожало мне ею со всех сторон. Убежать, повернуться спиной к неизвестности не хватало сил, от одной мысли взбунтовались ноги, легкой тошнотой засосало под ложечкой. Оставалось, уняв дрожь колен, допилить. Ствол заскрипел, как зубами, и ринулся на меня с умирающим победным воплем. Я беспомощно приседал со слезами ребенка на глазах, когда истерика, глубоко сидевшая, выплеснулась наружу, швырнула тело в сторону. Встал я душевно опустошенным, чувствуя всю тяжесть платы за страх, но и со знанием: нужно ждать последнего трепета ствола, при любом ветре он может упасть только раз и только на одно место, нужно уметь выждать последнее направление и за оставшиеся две секунды отбежать. Пошел к собравшимся возле пустующей походной кухни-барака ребятам. К вальщикам медленно возвращался загар, взволнованные товарищи смотрели на них с участием. Свежнев, взглянув на меня с любовью, сказал:
— Какая гадина! Паскуда.
Павел Жиганов, пощупав плечо слегка разорванное веткой, подтвердил мрачно:
— Точно. Паскуда. Бесится со скуки. Он после училища мечтал остаться в городе — его в Покровку послали, мечтал в Европе поганой остаться — на Дальний Восток заслали. Пил, с б… лизался, стоя на макушке, с отчаяния мазохиствовал, микросадизмом занимался. А здесь совсем пухнет, по-человечески говорить разучился. Не человек он, а пули я бы на него не пожалел. А пока, ребятки, делать нечего, надо пахать, я обратно в часть не ходок, девицу себе уже приметил.
Все с грустным одобрением кивали головами. Танец человека со стволами продолжался, молитвы Всевышнему и всем чертям о ниспослании безветрия проходили втуне. Во время переку-ров молчали, как силу держали в себе ярость. Вечером прикатил Осокин, ходил, примеривался, подсчитывал кубометры. По-волчьи смотрели на него двадцать пар глаз, дымились убийством ставшие тяжелыми от работы руки.
Вместе с ночью глаза мои мутнели пьянством. Спирт в уютном кабаке-избе продавался по государственной цене, но можно было при желании заливаться самогонкой, бражкой, было и крепленое вино; его никто не пил.
Спирт вгонял в меня грусть и мечту об одиночестве без одиночества. Булькало в глотке девяносто градусов, возле бессмысленно, как в вечность, икал ручей. Я что-то вспоминал:
Они придут, жрецы любви,
Похожие на случай…
За спиной постучали об землю и остановились шаги. Замерли. Мужик бы заговорил.
— Садись. Ноги мудрости не учат.
Села рядом. Оборачиваясь, уже знал, что это существо принесет мне радость. Закурил, чтобы увидеть ее лицо. Это была сучкоруб Таня; не замечая, всё же запомнил в тайге ее коренастую фигуру, большие руки, умные глаза и молодое лицо.
— Выпить хочешь?
Мягко и грудно приплыл ее ответ:
— Нет. Ты еще почитай.
— Ладно.
Устал я жить в родном краю в тоске по гречневым просторам…
Делал паузы, затягивался и видел сквозь огонь сгоравшего табака ее крупный нос и глаза, пьющие тоску строк без остатка.
— Нравится?
— На такое не ответишь.
— Я тебе почитать дам.
— Я не умею читать.
— Ладно, я тебе повеселее прочту:
Это было у моря, где ажурная пена…
Я взглянул на темень, пачкающую Танино лицо:
— Как?
— Тут тоски еще больше, но только у людей такой тоски не бывает, у леса бывает, у болота. У болота часто бывает.
Я только выдохнул про себя:
— А-а-а!?
— Что?
— Нет, я ничего. Кстати, меня зовут Святославом. Так ты выпить не хочешь?
— Не сейчас. Я знаю, вы сегодня на лесоповале были. Трудно было. А имя-то твое я знаю: на складе старуха Прохоровна на тебя указала, сказала, что больно молчалив ты, а злобы в движениях да в глазах у тебя много.
Хлебнув, в ответ рассмеялся.
— Ошиблась твоя Прохоровна. А ты хорошая. Присела и мир другим стал.
Чувство благодарности, забытое, стало бухнуть, затопляя мечту и грустную злобу. Взял Танину руку и, поцеловав ладонь, прижался к ней щекой. Таня сильно вздрогнула, застыла. Потом, обмякая, сладко и радостно заплакала. Ее никто не целовал; руки, много лет державшие топор, не могли представить себе прикосновения губ; да что руки, и губы Танины, полные и твердые, никогда не таяли в поцелуе. Не принято было. Чужие иногда заносили новые слова и ласку. Но новое держалось не долго. Тут были староверы, были когда-то, но не очень давно, идолопоклонники. Может от них вошло в бабу и мужика понимание материнства и отцовства без лукавых утех, без баловства. Выдали ее замуж четыре года назад. Не узнала Таня в ту ночь ласки. Не знала она ее, но возмутилось ее тело, когда, терзая его, навалился муж, не погладив разочка, не проронив словечка. И после брал он ее, как хватает всякую пищу голодный. Не роптала она, не могла роптать, только понаслышке, как о диковинном и заморском, знала о поцелуе и о более тягучей, чем добрый мед, ласке. Ушел муж два года назад куда-то в люди и не вернулся навер-ное, устроился на ударную стройку и сумел там прописаться. В избе остались она, маманя да Зина, дочка-карапуз. Пока была маманя, как-то к дочери не тянулись губы и руки. Отошла маманя, но и после того ласки к дочери были скупыми, неуклюжими, как от незнания. Теперь она знала. Губы хмельного, удивительного парня, умеющего говорить красивые песни, не по-хмельному прижа-лись с сильной нежностью к ее руке. Пришло к Тане счастье.
Она встала и по-старинному, доставая правой рукой земли, била челом. В меня, в Мальцева, остро вклинилось смущение, бутылка спирта и пьяная благодарность мешали, несуразно стояли между нами в этой благодатной темноте. Быстро встал.