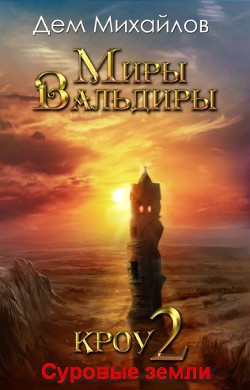Тяжесть

Тяжесть читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Артиллерийская часть встретила нас приветливо. Никто не удивился, что направили двух военнослужащих, окончивших годовую учебку дальней связи, в часть, где о подобном виде связи только слыхали. Начальник штаба, держа в руках наши документы, сказал:
— Так. Хорошо. Только учтите, во взводе связи вакантных мест у меня нет, так что не мечтайте. Но дело найдется. Вы, Мальцев, примите орудие, а вы, Свежнев, чтоб через месяц были у меня наводчиком. А пока мы вас пошлем размять кости, — покуда дисциплина с вас не спала. Части нужен лес, новый учебный стенд будем строить. Поедете в леспромхоз этот лес зарабаты-вать. На должность старшины командировочного отделения назначаю вас, Мальцев, командиром назначен уже лейтенант Осокин, тоже только из училища. Споетесь. Даю два дня на ознакомление с частью. Всё. Идите.
С радостью внезапно похудевшего толстяка выскочили из штаба и, чувствуя приближение свободы, выраженной в нормальном общении с людьми, в разлетевшейся во все стороны фантазии о душевном покое среди спокойной тайги, помчались, по-детски подбрасывая ноги, к казармам. Ребята встретили нормально:
— Из учебки?
— Да, из Сергеевской.
— Сколько мариновали?
— Четырнадцать месяцев.
Лица ребят покрылись уважением. Артиллерийская учебка тянулась от трех до шести месяцев. Я был спокоен, уважение людей уже само по себе есть власть над ними. Койки нам предложили безъярусные, ибо год учебки равняется двум годам в части. Нас принимали как стариков. Ефрейтор, у которого я принял отделение (оно же расчет орудия), недовольно буркнул что-то, теряя власть и с ней относительную свободу передвижения, тихо и не очень зло. Но инсти-нктивную злобу ко мне, вероятно, сохранил, так приятнее чего-либо лишаться: хоть эфемерная надежда на месть подслащивает горькую пилюлю. Не помню, отомстил ли он мне? Возможно.
Весь день и вечер наслаждались псевдодисциплиной, покрывающей часть. Обращение к вышестоящим было легким, в движениях ребят замечалась развязанность, пояс ухарски повисал книзу, часто покоился на животе, офицеры же, не замечая, проходили мимо. В столовую шли вольно, многие вертели головами, иногда можно было услышать шёпот разговора. Для нас это уже была свобода. Остановившись возле столовой, мы со Свежневым с изумлением раззявили глаза, когда после команды вольно вместо того, чтобы колонной по одному входить в помещение столовой, ребята с воем бросились наперегонки к широким дверям. Только одно нам было знакомо — ложки за голенищем. И в учебке начальство не могло помешать перманентному исчезновению ложек. И хотя как солдат я презирал это стадо, кавардак кругом радовал. Так приводит пьяного к блаженству битье посуды в пивной.
На следующее утро во время утренней политинформации это блаженство вышло мне боком. Лейтенант Осокин, недавно окончивший Ленинградское артиллерийское училище, маленький узкоплечий паренек старше меня на год, рассказывал о последних месяцах Великой Отечественной войны.
— Город Кенигсберг, фашистское гнездо, был взят штурмом нашими войсками. Этот город, исконный русский город, был нам по закону возвращен после войны и переименован в Калинин-град, область также стала носить имя верного ленинца товарища Калинина. Люди, живущие на этих землях, получили долгожданную свободу, которую в борьбе за нее с фашистским гадом щедро полили кровью наши солдаты, освободители Европы от коричневой чумы. Там, кстати, погиб мой отец. Вопросы есть? Я вас слушаю, сержант.
Мне было смешно:
— Вот насчет Кенигсберга я что-то не совсем понял, товарищ лейтенант. Этот город, насколько я знаю, был основан тевтонским орденом в 1125 году, так что он никак не мог быть русским городом. Правда, там действительно восемьсот лет назад жили славяне, но если судить о русскости с такой точки зрения, то русским в Сибири делать совершенно нечего.
Я взлетал на словах. В ленинской комнате, где происходила политинформация, бродили смешки. Осокин побледнел от страха за свой авторитет и от злобы ко мне:
— Этим гадам еще не то следовало сделать! У меня мать в Ленинграде в блокаду померла с голодухи, отца убили. Всех немцев давно надо уничтожить, до последнего! Давно уже! А ты что, немец?
Но я все взлетал и блаженствовал:
— Как же так, товарищ лейтенант, а международная рабочая солидарность? По-вашему выходит, что следовало поставить к стенке Маркса, Энгельса, Розу Люксембург, а теперь — Ульбрихта?
Хохот взлетел к потолку ленинской комнаты. Вдруг Осокин заорал:
— Встать! Смирно! — и обернувшись, — товарищ полковник…
Командир полка, стоящий в дверях, махнул рукой:
— Вольно.
Он посмотрел на ставшие серьезными лица солдат:
— Вот что, лейтенант, хоть по уставу и не положено облаивать офицера перед солдатами… да все вы тут хлопцы. Ты ведь сам видишь, не те времена пошли, теперь солдат ученый, ему палец в рот не клади. Лучше нашего устав знает, не то что историю. Так что ты, лейтенант, учи да слова свои взвешивай, а то не то что уважать перестанут, а просто не начнут. Учись, лейтенант, и других учи.
Осокин стал подобен своему подворотничку. С этого мига его ненависть к интеллигентным белоручкам только увеличилась и уперлась в меня.
10
Сидели в кузове расслабленно тяжелые, как старое счастье, весело глядели, проезжая КПП, на лица наряда, полные зависти. Вверх, к куполу неба, скользило солнце цвета жадных губ женщины, теплый с прохладцей воздух ласково завывал на крутых поворотах немудреную песню. Свобода свистела в ушах. Глаза, отражающие вольную траву на сопках, отвыкали на ходу от привычных строгих линий казарм, посыпанных гравием дорожек, от обочин без травинки и цветка. К вечеру коричневые сопки стали реже, разбросанными пучками деревьев тянулась вдоль грузовика лесостепь. Мерк розовый горизонт, когда один из ребят, вскочив с лавки на повороте, заорал:
— Смотрите! Пал! Пал!
В нескольких сотнях метров вправо от дороги стояла крупная сопка, загораживая собой представление об обширности земли. Громадная огненная корона охватывала ее вершину, языки пламени зубчато взлетали, взрывались, соприкасаясь с сухим кустарником. Корона медленно ползла к подножию сопки. Мы чувствовали себя маленькими и пошлыми со своим грузовиком перед этой спирающей дыхание красотой. Из кабины вылез Осокин. Его вспухшее с похмелья лицо замерло. С усилием переборов обрушившуюся на него, как на любого смертного, силу пала, Осокин сказал:
— Ну чего? Не видели пожара? Поехали!
В кузове все переглянулись, покачали головами, что означало: мы еще хлебнем с ним горя. Нас стали окутывать таежные запахи, затем выросла, темнея в темноте плотной массой, уссурийская тайга. После нескольких веселых косогоров грузовик вкатился в Сосновку, село-леспромхоз. К машине подошло несколько баб с кринками:
— Пейте, сынки, после дороги, небось, устали.
Тепло стало от этих слов, мягко и нежно.
Осокину, к нашему превеликому удовольствию, отвели комнату в самом здании управления леспромхоза, нам дали домик на отшибе села. Рядом с домиком икал на крупных камнях ручей; исходивший от него свежий запах внушал ощущение добра. Зеленоватые камни в нем — вот и всё каменное достояние деревни. Сосновка была целиком из дерева, разве что трубы печей неестестве-нно торчали над миром древесины: над черным покоем старой, над буйным запахом свежестру-ганной. Тайга касалась деревни. Жители не валили близстоящих деревьев, делянки отступали в глубь тайги, кажущейся спереди вечномолодой, не раненной.
Покуривая взятый у одного мужика самосад, я стоял над икающим ручейком и глядел на мазки ночи. Мысль о том, что сюда могут прийти китайцы, показалась противоестественной. Я не задумывался над оправданностью этой противоестественности. Пожалуй, я здесь был единствен-ным человеком, который знал, что по Айгунскому договору, заключенному графом Муравьевым-Амурским в 1858 году, Китай был вынужден уступить России Амурскую область, что по договору 1860 года, заключенному в Пекине графом Игнатьевым, к России отошел отторгнутый от Китая Уссурийский край. Но это знание не мешало мне хотеть убить каждого китайца, стремящегося отвоевать-завоевать эти земли, русскость которых для меня была несомненной — она говорила, дышала, шептала, жила во мне. И мне было безразлично, почему я, Мальцев, мечтающий до холодного исступления уехать во Францию, так думал и чувствовал в ту ночь над мерно икающей водой.