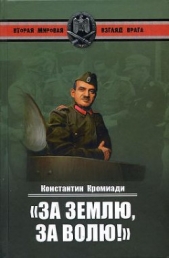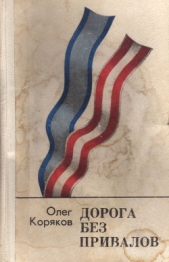Палисандрия

Палисандрия читать книгу онлайн
«Палисандрия» (1985) – самый нашумевший из романов Саши Соколова. Действие «Лолиты наоборот» – как прозвали «Палисандрию» после выхода – разворачивается на фоне фантастически переосмысленной советской действительности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Что? Почерк? – переспросил спустя много лет дядя Ника.– Да-да, разбирал».
«Ваши выводы?»
«Я нахожу тебя человеком крутого замеса. Ты создан руководить».
Годы неопределенности и становления перешли. Мнение Хрущева оказалось пророчеством. Но тогда, в средоточье России, на Лобном, автор строк лишь взмахнул руками: «Ах, что вы, что вы, какой из меня политик». И как умел–рассмеялся. Смех мой был хрупок, рассыпчат и нередко переходил в аллергический кашель, а вскоре и вовсе рассеялся, словно бы папиросный дым.
Ветер, дувший в прорехи шатра со стороны Исторического музея (Ныне музей Безвременья), весьма освежал. Освежало и пиво. Ника по вредной привычке много курил, стряхивая пепел в кадушку, откуда росла смоковница.
«Человек! – обратился Хрущев к молодцеватому половому в мундире от медицинских войск.– А верно ли сказывают, что головы тут рубили?»
«Так точно,– рапортовал тот навытяжку.– Отнимали».
«Мерзавцы!» – посетовал мой визави, в сердцах откидываясь на спинку петровского трона, заимствованного в Грановитой Палате на летний сезон. Я же, если не ошибаюсь, непринужденно откинулся в елизаветинском.
«Топором»,– пояснил половой, услужливо ударяя себя по шее ребром ладони. Но боли он не почувствовал, только тело его сразу словно б увяло, стало ненужным, чужим. На вид казненному было за пятьдесят, тогда как в действительности не сравнялось и сорока. Если верить архивным источникам, он переживал очередную молодость с одной из мадьярских стриптизок, этих весьма темпераментных и лохматых лахудр; отсюда и мешки под глазами.
«А где? – разволновался Хрущев, с зоркостью близорукого осматривая кафе.– Где конкретно?»
«Разрешите побеспокоить?» – сказал военный. Сказав так, он переставил все со стола на поднос и хищным движением сдернул скатерть.
Предмет, открывшийся нашему взору в тот по-летнему незабываемый вечер, Вы можете наблюдать ежедневно за исключением выходных в лавке своего излюбленного мясника, если только мясоедение еще не отменено декретом вегетарианского кабинета министров, каковая мера давно назрела и висит в перспективе клинком Дамокла. Разумеется, мы не настаиваем ни на чем ином, кроме обыкновенной дубовой колоды, на которой особыми секирами и ножами глумятся над
трупами наших ни в чем не повинных собратьев по фауне. Причем наиболее деликатной частью телятины и конины всегда почиталась грудинка, или, как в честь фаворитки-графини назвал эту вырезку Лжедмитрий Второй, Челышко-Соколок. (Свекор Клавдии Митрофановны Челышко-Соколок приходится мне прародителем пятнадцатого колена по материнской ветви. Пришлась мне впору и его музейной редкости епанча, найденная в ходе моих отроческих похождений по запасникам Платяной Палаты. Это дает основания утверждать, что род наш не оскудел еще плотью. Находка ценна и в другом отношении. Она свидетельствует, что организм шубной моли tinea pellionella иммунитет к нафталину успешно выработал. Не успел я составить дистих «Вот надену себе епанчу – и помчу, и помчу, и помчу!», как ворс в основном осыпался, ткань распалась, и при свете керосиновой лампы Павла Петровича из екатерининского псише (род старинного зеркала на высоких подставках), где каких только прелестей не отражалось когда-то, на меня загляделся один мой до боли знакомый, одетый, однако, почти инкогнито: столь преобразили его пращуровы лохмотья. (Вдобавок на нем была критская маска Орфея, одна из ценнейших в его огромной коллекции.) Впрочем, пристало ли нам кичиться знатностью происхождения. Оставим сие на откуп тем, кому ее не хватает, и – в путь. Как заметил старик Лэрри Дальберг своему королю Карлу Первому, когда у того на помосте сдуло и покатило шляпу и оба пустились ее догонять и догнали, «Делу время, потехе час, В. В.») Никита Сергеевич осторожно рассматривает сплошь иссеченную поверхность нашего неполированного стола, трет затылок и, словно что-то соображая, долго молчит.
«Плаха, что ли?» – роняет он наконец.
«Плаха, плаха,– угодливо, словно снятую с плеч долой августейшую голову, подхватывает на лету половой.– Та самая. На ней и рубили». Ища отличиться, он щелкает каблуками.
Никита Сергеевич вздрагивает.
«Историк один разыскал»,– говорит военный.
«Историк?» – вступил, оживясь, я в беседу.
«По древностям спец, сочинитель. Искал по подвалам икону какую-то, а набрел на плаху».
«Фамилию помнишь?» – спросил я официанта.
«Солоухин»,– ответил тот.
Тогда имя это мне ничего не сказало, однако впоследствии он нашумел своими речами и манифестами так, что даже и мне, человеку без политической подоплеки, случалось почитывать его сочинения. Горяч, задирист, автор их не лишен был известной публицистической жилки. В послании, куда его удалили за антиправительственные дерзости, мы познакомились лично. Правда, там его знали под несколько видоизмененной фамилией – Солженицын.
«Добрый день, дорогой мой»,– сказал я ему, по-прежнему делая вид, будто рассматриваю в трубу следующих за нами дельфинов, поскольку догадывался, что пароходы подобного класса кишат агентами всевозможных служб.
«Палисандр Александрович? Вот так встреча!» – воскликнул он, также не оборачиваясь. И раскольничья борода его обрадованно взметнулась.
Мы шли на персидском судне «Звездочет Низами» рейсом Порт-о-Пренс – Гибралтар. Огибая Азорские острова с подветренной стороны, беспрестанно качало. Подробнее наши взаимоотношения отражены в моем томе «Неизгладимое». Полистайте: весьма любопытно.
«Вы свободны»,– сказал я официанту.
Он повернулся идти.
«Погодите,– поймал я его за лацкан с гремучей змеей.– Я должен вручить вам ряд денег за оказанные услуги. Вот. Только потрудитесь не пересчитывать». И выдал ему несколько золотых «палисандров» – квадратных монет с профилем Вашего корреспондента. (Автор определенно что-то путает. Описываемый эпизод относится к эпохе иного профиля, иного чокана, когда на денежных знаках фигурировал один из моих предшественников. «Палисандры» же появились значительно позже. Хотя в остальном с подлинным все справедливо: на чай полагалось давать во все времена. И давалось.)
Проводив полового взглядом, я оборачиваюсь к Хрущеву. Облокотившись на плаху, Никита Сергеич рыдает: он явно навеселе. Наверно, уместней было бы не заметить слабости бывшего педагога, выказать такт, не опрашивать – мало ли о чем может скорбеть стареющий мемуарист под мадьярскую скрипку. Тем не менее я не выдерживаю: «О чем вы?»
«Да видишь,– салфеткою утирался Никита Сергеевич, люди тут кровь проливали, историю делали, а мы тут, значит, едим, распутничаем, классику слушаем. Непочтительно это все, некрасиво. Иваны мы, сударь, непомнящие».
Я киваю. Не успевший уйти окончательно половой приносит еще пару рижского.
«А особенно,– продолжал Хрущев,– особенно стрельцов я жалею. Верно Суриков их, художник, показывает, Василий Иванович: жены, матери их кругом – печалуются, кричат, а ребят все одно, понимаешь, под руки – и на казнь. А утро – ну такое, значит, хорошее, такое раннее – живи-не хочу. Нет, изволь расставаться»,– описывал дядя Ника и топал ногой.
Стриптизка визжала. Смычок экстатировал.
И было уж за полночь, когда вдвоем с половым мы вывели X. под открытое небо. Повозку подали. Я усадил воспитателя. Сел и сам. Конструкция тронулась.
В связи с капитальным ремонтом Кремля мы временно жительствовали тогда за мостами, в Замоскворечье, где, судя по некоторым данным, должно было поселяться купечество, но я что-то ни разу не обращал внимания, так ли это на самом деле, а если и так – так что же? Меяс тем ремонтировали и мосты, и везли нас долго, кружным путем. Зато я нисколько не утомлю Вас описаниями погоды, если с присущей мне сдержанностью констатирую, что погода была. Конечно, Вы вольны добавить какую-нибудь отсебятину, я не против. Рисуйте и дорисовывайте. Передайте, кстати, что вызвездило. Заметьте, что на небе вместо дежурных Рыб заказали отличного Рака. Что по мере езды катафалк все шибче дряхлел, кучер необоримо обнашивался – и осень кончилась разом, словно бы оборвалась остывшая водевильная связь. Назад уносились засиженные белыми мухами тумбы, киоски, вывески и другой реквизит городского спектакля, к восхищению модного зрителя расставленный исключительно нехаляво – как если бы упразднили цензуру.