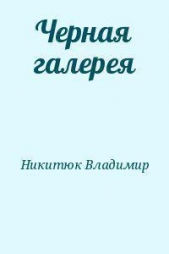Первая жена

Первая жена читать книгу онлайн
«Резать жизнь на куски: детство — первая книга, брак — вторая, великая внебрачная страсть — третья, болезнь ребенка — четвертая, это мне не интересно. Я предпочитаю рассказывать истории, которые увлекают меня далеко отсюда», — говорила Франсуаз Шандернагор после своей третьей книги о Франции XVII века. Но через пять лет она напишет роман о себе, о своем разводе, о своей погибшей любви, о возрождении к жизни.
Роман «Первая жена» принес выпускнице Высшей школы Национальной администрации, члену Государственного Совета Франции славу одной из ведущих писателей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Счастье печалит меня, счастье меня пугает. Красота, доброта, радость — моя боль все свела в единое целое, потому что из-за нее я говорю только о себе, о нем, о нас и вижу это «мы» повсюду. Траур по мужу сузил поле моего зрения, он заточил в одиночестве, личность деградирует.
Мне наплевать сегодня даже на клошаров, наркоманов, нищих! От несчастных более всего отдаляет само несчастье, и из всех несчастий самое эгоистичное — любовная драма. Оно же менее всего заслуживает и жалости — от рока тут очень мало зависит. Разведена, исключена, виновна! Виновна («Знаете, если он ее бросает после стольких лет, значит у него на это были серьезные причины…»). Виновна и приговорена именно к этой сжигающей изнутри боли, эта пытка заполняет тебя всю, сводит на нет твое существование — надеяться не на что, не будет ни милосердия, ни искупления.
Что до милосердия, то разве я не говорила, как избегали смотреть на меня медицинские сестры в больнице? Разве не говорило их перешептывание: «Еще одна „упала с лестницы“»? И о том легком презрении, том выражении превосходства во взоре, которое быстренько сменяют торопливые первые хлопоты по оказанию помощи… Не стоит забывать и отповедь молоденького врача-рентгенолога, которая в свои двадцать пять была совершенно уверена, что больше знает о женщинах, любви, браке, семье и о том, что хорошо для детей и что плохо, чем эта немолодая дама, которой наставили рога, которую избили и которая, совершенная слабачка, безостановочно льет слезы, рыдает как сумасшедшая так, что довела себя просто до неузнаваемости.
Тем вечером я смогла измерить ту пропасть, что отделяет соучастие от жалости, и жалость от сострадания. Соучастие практическое и неумолимое — рентгенолога: моя искалеченная рука стала для нее поводом для расхожих выводов и энергичных советов, высказанных по поводу моей умершей любви, — я бы ими, бесспорно, воспользовалась лет тридцать тому назад… И менее холодная, менее бездушная жалость медицинских сестер. Между ними и болью нет преграды, они касаются ее, а не снимают на пленку. Их прикосновения более нежны, слова звучат теплее, даже взгляды затуманиваются. Но только не по отношению к женщинам, побитым мужьями. Страдание таких женщин оскорбляет их чувство собственного достоинства: чужое несчастье унижает. И сестры, конечно, отстраняются — прикосновения остаются столь же нежными, но сами они уже не столь разговорчивы, смотрят рассеянно и снисходительно. В подобных случаях они не опускаются до сострадания, они ограничиваются «жалостью», той жалостью, что делает жалким того, к кому ее испытывают, жалким, несчастным и отверженным.
Истинное сострадание я нашла лишь у санитарки «скорой помощи», которая ждала вместе со мной приезда хирурга. Ее звали Ким, она была филиппинка, плохо говорила по-французски и вскоре стала обращаться ко мне только по-английски; она обняла меня, я уткнулась в ее большую грудь, и, ласково похлопывая меня по спине (как не сильно похлопывают ребенка, чтобы унять его боль, когда он плачет) она повторяла мне: «Cry, cry, honey!» Чтобы унять боль, она даже налила мне настойки собственного изготовления, она была очень теплой и очень сладкой — отличная подготовка к нескольким часам анестезии… Страдая со мной и за меня, и более, чем я, вместе со всеми, кого я в тот вечер представляла в ее глазах, она поила меня свой настойкой и своей любовью, ложка за ложкой, как если бы я была раненым ребенком. Потом, когда я снова принялась плакать, положив голову на ее обтянутую белым халатом грудь, прямо над значком с ее именем, она стала мне рассказывать, что одна воспитывает своих девочек, но что, она надеется, у них будет хорошая работа, чтобы не зависеть от мужчины, который будет их обманывать, от мужчины, который может бить их: «Cry, cry, honey!»
Я пила ее нежность, как молоко, но меня не покидало чувство стыда из-за того, что я незаслуженно ею пользовалась: симпатия этой женщины относилась не ко мне, потому что я не была в ее глазах «побитой женщиной», женщиной, которую бьют, я была просто женщиной, которую постоянно обманывают, униженной женщиной и слишком послушной — настолько, что однажды обязательно должно было захотеться побить!
Мой муж тоже не преминул этим воспользоваться: когда он меня спрашивает (все реже и реже), как я себя чувствую, он никогда не говорит, как вначале, «эта случайность», он говорит — «этот несчастный случай». Три слова и ни одно не выкинуть. Раз «несчастный случай» — значит, он меня не трогал. Более того, «несчастный» — это определение точно указывает на мою «вечную беспомощность»! И в довершение всего — «этот несчастный случай», значит — «твой несчастный случай». То есть говорить не о чем, это звучит, как «твои дети» или «твоя машина»: это значит «несчастный случай, в котором ты виновата сама», в общем — твое личное дело. Вот так. Может быть, я действительно упала с лестницы?
Но в той войне, которую мы объявили друг другу, есть нечто худшее, чем эта ложь умолчания — сплетни. Злые, грязные сплетни. Они поджидают меня в углу парфюмерного отдела одного большого магазина:
— Катрин! Вот так сюрприз… Где ты пропадала? Я тебе звонила сто раз! И все время автоответчики… Я оставляла сообщения… Но никто мне так и не перезвонил!
— Меня не было, я путешествовала. И потом, теперь, когда я ушла с факультета, я много живу в деревне. Пишу. (Никто не будет проверять, что с тех пор как мой муж бросил меня, я просто-напросто перемалываю ветер, а не пишу! Мой дом в Комбрай — настоящая мельница дядюшки Корнийя.)
— Как бы там ни было, тебе повезло, что ты меня встретила! Потому что пора тебе появиться на людях, давно нора! Во-первых, твой муж повсюду таскает с собой эту свою крашеную бабу… И все нипочем ни ему, ни ей! Совершенно счастливы! Ну и, естественно, начинаются вопросы, почему ты-то всех избегаешь? Ты предоставляешь им свободу действий, понимаешь? Твое отсутствие дает пищу сплетням, которые… Что? Не говори мне, что не знаешь… Может быть, конечно, я не должна была бы тебе это говорить… Люди такие злые, бедная моя крошка! Некоторые даже дошли до того, что уверяют, будто ты настоящая пиявка, что ты хочешь посадить его на хлеб и воду, что ты всегда была корыстна, что ты его собираешься ощипать… Но это еще не самое плохое! Говорят, что ты больна, что у тебе депрессия… С истериками, с приступами агрессии, физической агрессии…
— Агрессии? Это я-то агрессивна, я?
Голос у меня срывается, боль сдавливает горло, и вдруг меня начинает рвать, прямо там. В отделе парфюмерии. Человек, которого я люблю, осмелился обвинять меня в той боли, которую мне причинил! Он поливает меня грязью, а я прячу свое уродство, чтобы пощадить его! Я лгала, чтобы пощадить его: упала с лестницы, несчастный случай, — а он лжет, чтобы унизить меня!
У меня уже не хватает сил на возмущение, я сама завершаю то грязное дело, что он начал, я сама обливаю себя слезами и грязью — и в самом святилище чистоты! Все летит в помойку: истина, которую я должна была бы открыть, достоинство, которое я должна была бы хранить, флаконы туалетной воды, украшенные бантами, слишком сладкие голоса продавщиц и их нежные клиентки в этом «самом святилище чистоты…» К счастью, приятельница моя не прослезилась: она дотащила меня до первого выхода, втолкнула в первое попавшееся кафе, довела до туалета, вытерла мне рот, глаза, пальто, заставила высморкаться и, в довершение всего, стерла с меня всю блевотину, а потом выбрала столик в самом темном углу и заказала два чая.
Говорить я была не в силах, я могла только, опустившись на табурет, вытащить из кармана свою изуродованную левую руку, эту сведенную вечной судорогой руку, пальцы на которой я не могу ни сжать, ни распрямить, — это лапа пойманной птицы, это фантом руки, заточенной в белый панцирь с железными распорками, — и, ни слова не говоря, помахать этим пыточным инструментом перед носом у приятельницы, — точно так же мой муж молча махал перед моим носом своей рукой со снятым обручальным кольцом…
— Какой ужас! Как же это случилось?
— Это он, — выдавила я из себя, икая, — это он… Он не хотел, но…