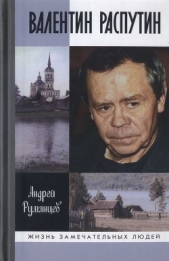Повести и рассказы
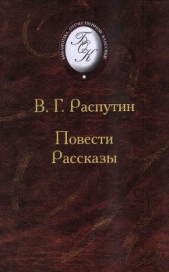
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из коридора время от времени слышались шаги — точно крадущиеся по случаю выходного, в открытое окно налетал ровный и спаянный гул города, идущий, казалось, из какого-то одного источника. Посвистывал больным носом следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, деланно сопереживая, вздыхал.
— Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?
Светка мелконько, дрожью, затрясла головой.
— Не сказала?
— Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был.
— А что у вас было? — Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: — Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос. И мне нужны подробности. Рассказывай.
Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.
— Пусть мама выйдет, — медленно, растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.
— Мама не может выйти. Она здесь не для своего удовольствия сидит.
Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых изглубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость. Вся натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все сглатывала, сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: „Но почему?..“ — Светка неживым голосом отвечала: „Я боялась, он грозился убить“. Вопросы продолжались, продолжались и ответы. После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, — она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для кого другого, крикнула в нестерпимой муке:
— Да как это можно?! — и выскочила в коридор.
Следователь вернул ее, дал отдохнуть ей и Светке. Он закурил, вежливо осведомился, не мешает ли им дым, встал у окна, спиной к ним, отставив назад правую руку, разминая затекшие от писания пальцы. Тамара Ивановна и на руку его с растопыренными пухлыми пальцами смотрела с ужасом, как на надвигающегося огромного паука или скорпиона. Но нет, как известно, пределов человеческому терпению — смирила себя и она. И когда допрос продолжился, она успела в себе что-то закупорить, что-то замкнуть на прочные запоры и сидела неподвижно, но вполне в памяти. Хуже, страшнее того, что услышала она, быть уже не могло. Но и все остальное было не многим лучше.
Около полуночи кавказцы оставили тесный притон в общежитии. Своих девушек они вели под руку. По теплой погоде и только-только смеркшемуся дню на улицах было почти людно, по большей части молодым, не чурающимся приключений, народом. Трамвай долго не подходил, и на остановке то в одной группе, то в другой вспыхивал крик. Подруга Лида не обманула, что здесь она и оставила Светку с ее кавказцем, уехала домой, но она знала, куда везет Светку кавказец. Тот не скрывал, что его постой находится недалеко от рынка, за травматологическим институтом, в деревянном доме. Туда он и подругу Лиду с Эдиком тянул, размахивая руками и быстро лопоча что-то на своем языке, когда обращался к Эдику. Но тот был испуган происшедшим в общежитии и торопился сбежать подальше от своего родственника, который, конечно, братом ему не был, даже и двоюродным, но все они, выходцы из горного края, на стороне считали себя братьями.
— Ты могла от него сбежать? — спрашивал Цоколь.
Светка попыталась задним умом понять, могла ли, но и теперь по ее телу прошел испуг.
— Я боялась.
— Но ты могла, если бы не боялась?
— Я не знаю. Я боялась. Я на остановке хотела, но он предупредил, что догонит и зарежет. Там много кричали… если бы я закричала, никто не помог бы…
— А где он грозился зарезать — на трамвайной остановке?
— И там тоже. И потом... в деревянном доме.
Там он заставил ее выпить стакан водки. Расцепил зубы, зажав поднятую вверх лицом голову, как кочан капусты, и влил водку до последней капли. Молодая бурятка, хозяйка квартиры, и друг ее, еще один кавказец, высокий, с оспяным, чешуйчатым лицом и тяжелыми, в глубоких впадинах, глазами, смотрели, как дергается, захлебывается и обвисает в судороге юная пленница, с любопытством. Чего не происходит, когда гулянка, как гармошка, разыгралась так, что не унять, каких только красавиц не нахлещет сюда ее переборами! Домишко был маленький, в одну комнату с отгороженной кухней, посреди комнаты стоял стол, вытянутый к окну, а по обе стороны от стола к стенам прижимались две старые деревянные кровати, застеленные суконными солдатскими одеялами. Стол отодвинули, откуда-то загремела музыка, и он, этот Эльдар, заставлял Светку плясать по-ихнему, по-кавказски. Она не умела, и он с кровати, изгибаясь телом и выбрасывая ноги, пинал ее в такт дикой музыке.
— Неужели ни одного ласкового слова он не сказал тебе? — вздохнул следователь, наглаживая левой, свободной, рукой лысину. — Неужели все таким зверем?
Светка припоминала:
— Не знаю, может, у них это ласковые… „Ты меня любишь?“ — спрашивает. Я говорю: „Нет“. Он ударит: „Любишь меня?“ — „Люблю“. — „Родишь мне сына?“ — „Нет“. Бьет. Говорю: „Рожу“. — „Любишь меня?“ — „Люблю“.
Тамара Ивановна выдержала все. Только жалкий какой-то голос — есть, оказывается, в человеке самоговорящий голос, не мысленный, не угадывающийся, а совершенно самостоятельный, — только этот жалкий голос, по тону Светкин, но и не Светкин, как бы ее самой, но и не ее, в продолжение всей второй половины допроса тыкался ей под сердце и путано наговаривал: „Ничего, ничего… это ничего.. это к нам, принимайте гостей… мы гостям завсегда рады, мы со всяким нашим удовольствием… мы ничего… мы такие…“ Этим голосом кто-то, как бы раздвоившийся в ней и счастливый от раздвоения, нахлестывал ее, издеваясь и ликуя, по-свойски находил, где ударить больнее, слащаво поддакивал удару и затаенно ждал, когда в разговоре появится новая подробность, чтобы принять ее с восторгом и значением.
— И что дальше? — спросила Тамара Ивановна у следователя, когда допрос наконец был окончен и листки протокола подписаны. — Где его будут судить?
Следователь с жалостью посмотрел на нее, заметил, что она, поднявшись, пошатывается, и уклончиво ответил:
— Судят по месту преступления. Но до суда еще далеко-о.
Последнее слово он невольно, ни на что не намекая и ни к чему не склоняясь, отправил в недосягаемые выси.
— А что — почему так далеко? — Тамара Ивановна и не заметила, что она отозвалась не на смысл, а на интонацию.
— Много чего требуется. Я еще свидетелей не опрашивал. А свидетели есть. Есть свидетели.
* * *
Началась рабочая неделя, наступил понедельник, последний день мая. Ранняя жара наконец спала, распустив зелень до последнего листочка, и тополя, клены стояли в новых и роскошных складчатых одеяниях. Ими наигрывал слабый прохладный ветерок и молодые листочки мелко трепетали, все разом радостно наговаривали. Небо было в тучах, тяжелых и рваных, солнце то показывалось, то пряталось, небо стояло высоко, отодвинувшись от большого города, который всю зиму коптил его нещадно, а теперь перешел на летнюю норму копчения. В квартире свет был пригашен не от туч, а от густой, стоящей стеной, зелени в сквере, куда смотрели три окна из четырех.
Утром, часов в десять, позвонил Цоколь, следователь, и попросил Светку прийти к нему после обеда. Разговаривала с ним Тамара Ивановна. Цоколь успокаивающе сказал, что встреча нужна для прояснения некоторых обстоятельств дела и что он будет разговаривать с потерпевшей наедине. Пусть разговаривает наедине, согласилась Тамара Ивановна, но Светку она одну не отпустит, в прокуратуру они пойдут вместе. Спустя примерно час раздался новый звонок, на этот раз разговаривал Анатолий. Он зашел в кухню к жене взвинченный, лицо напряглось и покраснело. Зашел и вышел, глянув на жену и пожалев ее. Но тут же вернулся.