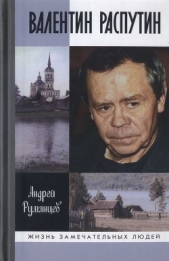Повести и рассказы
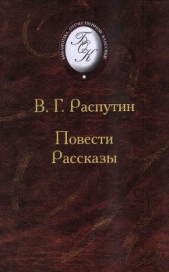
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Гли-ка! — слабо удивилась Тамара Ивановна. — Сам разглядел или кто подсказал?
— Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот «бездна». Что такое «без дна»?
— Ты у меня, что ли, спрашиваешь?
— У тебя. Посмотрю на твое развитие…
— Я те покажу развитие… Доразвивались… дальше некуда. Ахнули в пропасть — вот тебе и бездна.
— Правильно: «про’пасть» — от «пропа`сть», и она «без дна» — вот и «бездна».
— Учись, — вздохнула Тамара Ивановна. — Так учись, чтоб не пропасть. Счас все шиворот-навыворот — ой, разбираться днем с огнем надо. Слова взялся разгадывать… разгадай-ка сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее. Ой, Иван, берегись. Счас матери с отцом углядеть вас — никаких глаз не хватит. Сам берегись. Теперь детишкам хуже, чем в детдоме. В детдоме досмотр был, там, может ласки не хватало, а досмотр был. А счас и при живых родителях сиротство: все под смех да под издевки пошло.
И сама же, спустя недели две, вспомнила:
— Ну, что еще разыскал? В словах-то? Какие там еще разъяснения?
— Разъяснения мне больше неинтересны, — ответил Иван, напуская на себя опытность. — Я в этом предмете в следующий класс перешел. Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взрослеют. Вот, к примеру… вот, к примеру, «злыдни»… Ты знаешь, что такое «злыдни»?
— У нас в деревне говорили: последние злыдни выгребли. Значит: остатки, деньги там или продуктишки, на черный день приготовлены.
— Да, теперь так. Но если смотреть на слово — это «злые дни». Сначала оно, видать, жило с этим значением, а потом потихоньку-потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней. Или слово «равнодушный». Оно относилось к человеку равной с другим, равновеликой, души, а сейчас это бездушный человек. Вон куда уехало.
Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:
— Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! — Она вздохнула. — Только не кормежное, однако, это дело, это твое гадание на словах…
— Языкознание называется. Конечно, не кормежное. — Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся. — Не кормежное — еще бы!
— Чего ржешь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?
— Да мне ведь еще ведь еще год в школе…
— Школу-то не задумал бросать?
— Нет, не задумал. Я мог бы, конечно, самостоятельно… — «Хвастунишка, — подумала Тамара Ивановна. — Сразу то и другое заедино: и хвастунишка-мальчишка, и взрослый уж, серьезный человек. — Мог бы самостоятельно, — выхвалялся сын, — но мне аттестат зрелости не повредит.
— Вот чего бы Светке не учиться?.. Школа — плохо и без школы плохо.
— С нами плохо, а без нас тоже плохо, — поддразнил Иван.
— И правильно! — решительно подтвердила Тамара Ивановна. — Ты надо мной смешки не строй, я тоже разбираюсь. Правильное — оно и будет правильным, как ты его не обсмеивай. Этим твоим горлопанам, этим твоим дуроплясам надо бы знать: правильное правильным и останется. Они в дым превратятся, в фук, в вонь, а оно стоять будет.
— Да с чего они мои-то? Ты с чего их мне в родню-то записала?
— Потому что они для тебя стараются!
— Они и для тебя стараются!
— Меня им не взять!
— А если меня взять — плохо ты меня воспитываешь!
— Ничего, я вас воспитаю! Вы у меня шелковые станете!
— Ма-а-ма! — миролюбиво протянул Иван, лицо его поехало на сторону от смеха. — Как называются первые огурцы?
— Чего-о-о?
— Как называются первые огурцы, помидоры, ну и так далее?
— Чего ты меня дуришь?
— Ну, как они называются — знаешь?
— Так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок — первенец. Первый огурец — тоже, поди, первенец.
— Поди… Вот тебе и поди. Огурец-то — это, поди, не ребенок. Первые овощи, мама, — начатки. А как называется беременная женщина? Она называется: непраздная. Вот так. Тоже мне: не кормежное дело… А вспомнишь, что начатки, и огурцы вкуснее.
— Хоть русские слова — и то ладно. А то сейчас понатаскали всякую дребедень, будто мы уж не дома, и скалят под нее зубы, и скалят…
— А почему девушку называют красной? — не отставал Иван; очень ему нравилось учительствовать перед матерью, так и приплясывал он перед нею, наигрывая головой, так и брызгали его глаза веселым нетерпением. — Красна девушка — это что?
— На морковке да на свекле со своей грядки возросла — вот и красная.
— Красная — это красивая. Так в старину говорили. Красная площадь в Москве — не от морковки же она красная… А потому что выстроена красиво.
— Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, — уперлась Тамара Ивановна. — Тут уж ты меня не перебьешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха — вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое — от коровки, щеки жаром пышут — от чего же еще, как не от нее, не от морковки; глаза чисто глядят — утром встанет пораньше да умоет свои глаза свежей росой, они и рады-радешеньки. А ежели еще коса на месте… Коса на месте — все на месте, так и запомни.
Иван на торжественной ноте продекламировал:
— У красной девицы, мама, не глаза, а очи: жгучие очи. Не щеки, а ланиты: бархатные ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди — это перси: трепетные перси…
— Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же! Имей стыд-то! Заповзглядывал куда не просят! Персы!
— Не персы, мама, а перси-и. Это по-старорусски. Когда хотели возвышенно сказать о женщине, наградить ее неземной красотой…
— Чем земная-то плоха стала?
— Да посмотри: с ланитами да персями, с очами да веждами совсем по-другому смотрится женщина. Боярыней смотрится. Павой. Знаешь, что такое пава? „А сама-то величава, выступает словно пава“. Помнишь?
„Пава“ почему-то обидела Тамару Ивановну:
— Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. Учись да не заучивайся, дальше ума не лезь. Ишь, пава… Придет время — не паву себе ищи, не на персы глаза пяль, а душу почуй. Душа-то, поди, себе имена-фамилии не перебирала… Перебирала или нет?
— Не знаю. Кажется, нет.
— Ей это и не надо. Она скромницей живет. Терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю.
* * *
На следующий день после возвращения Светки пришлось идти в прокуратуру с самого утра. В этот раз их, Тамару Ивановну и Светку, вызвали вместе, Тамару Ивановну как законного представителя потерпевшей. Вот кто теперь они, дочь и мать: одна законная потерпевшая, другая — законный представитель потерпевшей. Таков язык в этих стенах, видевших и слышавших такие истории, что никакие слова и никакие происшествия тут никого покоробить не должны, и, если, по несчастью, это происходит, значит человек плохо представлял себе, куда он шел.
Следователь, сидевший за столом, был из того распространенного типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к сорока годам попадают многие: рыхлое и посиневшее крупное лицо, лысина на голове, которую уже и маскировать нечем, нарочито замедленные движения, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд много повидавших глаз. Фамилия его была Цоколь, он назвал себя сразу же, как только усадил перед собой Тамару Ивановну и Светку. Светка села напротив следователя, Тамара Ивановна в углу стола, справа от дочери. Имя не сказал, тут это не полагалось. И их имена записал только на лицевой стороне протокола допроса и впредь легко, нисколько не затрудняясь в обращении, обходился без имен.
Кабинет был сурового и холодного вида: кроме стола Цоколя в левом углу у окна, еще один стол по правой стене ближе к двери, окно, невеселое, выходящее во двор, на покрытую металлическими листами и крашеную суриком крышу хозяйственного пристроя. Одинаково громоздко подпирали боковые стены большой темный шкаф справа и большой железный сейф слева, тот и другой давно миновавших, но поразительно прочных образцов. Тамару Ивановну эта мрачная обстановка удивила. Она считала, что, если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться щедро. Оказалось, судя по обстановке в прокуратуре, это совсем не так.