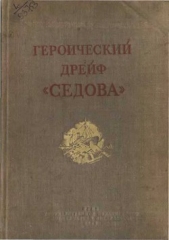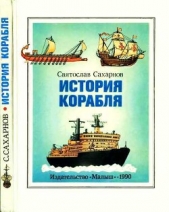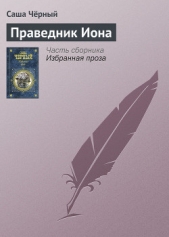Траектории слез

Траектории слез читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
… После работы некуда было пойти, и он, скинув кирзачи, сидел на огромной асбестовой трубе, валяющейся в поле неподалеку от забора завода. В общежитие ссыльных, где он прожил уже половину срока, летом он приходил только к вечерней перекличке.
Стоял теплый и тихий ранний вечер с молочными облаками, сквозь которые трудно определить, где находится солнце. Он пожевывал травинку и смотрел в даль поля, которая завершалась голубым серпантином старых, порушенных временем, гор. Невдалеке тянулась телеграфная линия — покосившиеся серые столбы удалялись туда, в сторону горной гряды, и провода кое-где провисали, почти касаясь высокой травы. Они монотонно гудели, но он настолько привык к их гудению в этот, двадцать пятый год своей жизни, что оно стало составной частью тишины равнодушного неспешного лета. Кружилась одинокая мошка и он изредка, ладонью, сгонял ее с русых выгоревших волос, или отмахивал от веснушчатого, в пятнах копоти, лица, на котором застыло ленивое и чуть насмешливое выражение свычности с усталостью и печалью.
Послышались голоса — от ворот завода шли в поле пятеро корейцев — горнорабочих. Они были веселы, один из них пел на своем языке, видимо, подражая какому-то певцу, все смеялись. Шагали — кто с буханкой белого хлеба, кто с бутылкой вина. Они миновали трубу с сидящим на ней и шли вдаль.
От одного из столбов отделилась (или встала из травы) тонкая фигура в пестром платье. Горнорабочие замахали ей (голоса почти не доносились) и ускорили шаг, идя по пояс в траве.
Он выплюнул травинку и лег навзничь на слабо нагретой трубе — подумав о том, что если б вчера хватило денег до бутылки портвейна, то он, может быть, набрался бы смелости и заговорил бы с нею. (Ее, всегда застенчиво улыбающуюся, словно не знающую, что делать со своей юностью, он часто встречал в поселке.) При взгляде в белое небо (где отдаленно блуждали позывные «сигналов точного времени»), в нем, захлестнутом горем музыки слов, почти моментально родилось то короткое стихотворение, которое много лет спустя он прослушал с недоверчивой улыбкой, когда молодой журналист спросил его об обстоятельствах написания «вот этой вещицы» (тут же продекламировав ее).
Он, затруднившийся ответить, стоял, облокотясь о перила террасы дома своего деда и смотрел на волнуемый бодрящим ветром, блестящий на солнце после краткого ливня, заливной луг меж конюшней и заболоченной рощей в низине. А невысоко над лугом, противостоя ветру начальной осени, летела птица, и ее то и дело сносило воздушным потоком, и получалось, что она пребывает все там же — почти посредине меж деревцами болота и — проваленной местами — крышей конюшни.
Когда ж журналист деликатно спросил:
— А что бы вы могли сказать в завершение нашей беседы, — он ответил все так же глядя в сторону луга:
— Пометьте: интервью вышло именно таким, потому что в воздухе была сносимая ветром птица.
Фиолетовым утром в начале зимы стоишь на пятом этаже в ее подъезде и все не можешь уйти, хотя знаешь, что позвонить не решишься. Время идет и за окном светлеет, светлеет. Близится день. Одна из рам остеклена не вся — на три четверти. И в этот проем ты смотришь на город. А ночью был обильный снегопад, и крыши, деревья, холмы — белые. На свете чисто и грустно. Ты видишь море над плоской крышей пятиэтажки, стоящей ниже ее дома. Небо над городом ровное, серое, но над морем оно свободное, прозрачное, словно видимое из лазарета, и от него щемит в груди и делается ком в горле. А город борется со снегом: издалека долетает гул снегоуборочных машин, шарканье лопат и скребков по асфальту. Ты куришь и дымок выплывает за окно и исчезает в городском небе, и мелькают талые капли и все так похоже на весну, а ты не одел шарфа, и оголенному горлу хорошо, предболезненно, остро. И, подумав: «А если она все-таки дома? Если выйдет?» — ты спускаешься по лестнице и идешь в сторону ближнего кинотеатра по улице с растоптанной снеговой грязью на тротуаре. Вот и завлачились трамваи, красно-желтые, ветхозаветные трамваи твоего города — теперь по брови облепленные снегом Нансены, Амундсены. Вверху трещит, сыплются синие искры и с проводов сваливаются комья талого снега. Ты встречаешь мимолетного приятеля, и, почти на ходу, обмениваешься с ним анекдотами, и, досмеиваясь, уносишь свою печаль дальше. В кафетерии гулко и малолюдно, и звенят блюдца, и пахнет хлебом и кофе и снегом. Продавщица развешивает в витрине елочные игрушки, а женщина за кассой советует — где лучше будет смотреться тот или иной хрупкий цветной шар, опутанный серебряным дождем. Стоишь с фаянсовой кружкой в ладонях рядом со стеклянной дверью и в зигзагах между крышами старого квартала видишь белый холм. Не так давно он был зеленый, осыпанный кленовыми листьями. Разлегшись на нем с травинкой во рту, тебе было отлично видно, кто выходит из Института Искусств. И если это была подруга Гали, ты вставал и шел в сторону института, чтоб поравнявшись с нею, поздороваться, потому что знал — она расскажет Гале о встрече с тобой на улице.
… Поздним вечером полярного дня, светящего рассеянным солнцем сквозь плотно задернутый на окнах тюль, мы втроем пьем пиво из высоких узких бутылок — истинных шедевров стеклодувного искусства. Играем на гитаре.
Когда расходимся спать, я ложусь в этой же комнате, на койке с колесиками, в углу, довольно темном из-за загораживающего свет шифоньера.
… Через недолгое время я просыпаюсь от звонка в дверь. Кто-то из вас пошел открывать, шаркая босыми ногами, щурясь, и почесывая ребра под майкой. После шепота нескольких голосов и звуков снимаемой обуви, входит (за кем-то из вас) она с мужем, и третий с ними — человек, память о котором я в юности мечтал хранить один, на всем свете — один. Они ложатся на раскладном диване, почти не раздеваясь, как это делается, когда возвращаешься с вечеринки, и, чтоб не тащиться до дома ночью, решаешь потревожить друзей.
И в идеальной тишине комнаты, пронизанной тонкими пыльными лучами солнца, я, на верхнюю половину неувиденный полуночниками, неподвижно лежу и смотрю на них, спящих (не замечая ее мужа у стены), на эти два профиля, которые я, наверное, смог бы вырезать ножницами, закрывши глаза, как делал портреты прогуливающихся старик с тюремными татуировками на руках, работой которого я был заворожен на Арбате…
… И на исходе тысячелетья ты вернулся в свой город после нескольких лет разлуки. Это декабрь. Утро розово-голубое, молодое, и даже чудятся в небе оттенки зеленого. И день настанет солнечный и потекут грязные потоки талого снега, вниз, к морю, и закапает с крыш — как будто какой-то из дней будущей весны вырвался из будущего года, нового века, и посетил твой город не в срок. И придя с вокзала с чемоданом в руке, ты зашел домой, где все живы, здоровы, и, позавтракав с родными, ты поднялся на холм над твоим домом, и там, забравшись на одну из площадок первой телебашни города, уже с четверть века заброшенной, черной и поржавелой, ты стоял и смотрел на город, прислонясь спиной к чугунной лестнице: а город пуст, и, кажется, так и будет всегда — сплошное, повсеместное воскресенье. Курится вкусный дымок над крышей твоего дома. Вон внизу движется с холма на холм синяя жужелица троллейбуса, и ты не знаешь, что в салоне (где десяток заспанных пассажиров), звучит кассета твоих песен уходящего года, ты прислал ее другу, а он записал их своему другу — троллейбусному водителю. И ты не знаешь, что в тире у вокзала, мимо которого ты сегодня проходил, одна из первых и самых любимых тобой самим песен — звучит, когда стрелок попадает точно в кружочек над жестяной мишенью «динамик». Тридцатитрехлетний, одинокий и праздничный, смотришь на город, а мыслей почти нет, только осознание — вот, я вернулся, если б я знал, когда последний раз был здесь и насыщал свою душу этой панорамой, сколько мне предстоит пережить и увидеть, и какие создать песни, и каким получится фильм. И, хотя день будет теплым, — холодок утра просачивается через рукава и входит за горловину свитера, и ты запахиваешь пальто, и засовываешь руки в карманы, думая: каким я буду, когда в следующее возвращенье подымусь сюда?.. И еще осознание: город, а в нем друзья и любови друзей. И в душе все это время витает, воспаряет мотив, а собственных слов уже и не вспомнить, кроме: «О, ты, мой возлюбленный город! Мерно шествуют ввысь цеппелины твои». И что-то там еще такое. «Как сражаются с бурей твои корабли», и есть что-то про закаты посмертного лета (когда писалась песня, ты и не чаял, что доживешь до скончания века, а вот поди ж ты — озираешь город и море и небо, а было столько всего, такого, после чего умирать уже не интересно), и кончается песня строкой — «макинтош, polaroid, крыло»…