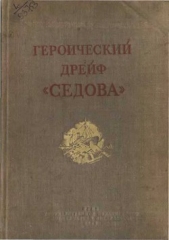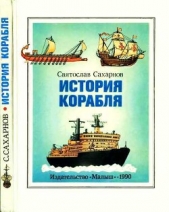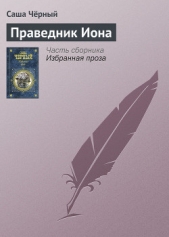Траектории слез

Траектории слез читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из военкомата вышел шофер, сел за баранку, хлопнул дверцей, крикнул прапорщику:
— Вперед?!
— Секунду, дайте проститься, — сказал Гоша. Вынул из карманов стакан, бутылку с остатками водки. — Давай, Тим, из стакашка, а мы из горла добьем ее.
— Ну, давай, Тимош, думай про нас и все будет хорошо, — сказал Женя.
— Это вы думайте про меня и письма пишите.
Выпили.
— А, забыл на проводах сказать тебе. Хорошо что вспомнил. Смотри. — Волков вынул спичечный коробок, достал из него две спички, одну обломал. — В армии часто придется на спичках жребий кидать. Видишь, длинная спичка всегда чуть вперед выдается. Запомни. Длинная — вперед, обломанная — назад.
— Ух ты, здорово. Ну все, прощайте, прощайте…
Тимофей обнялся с Женей, потом с Игорем, и, заскочив в автобус, сел на заднее сиденье. Автобус тронулся. Друзья шли вслед…
Автобус спустился вниз по улице. В центре города была «пробка». Близился юбилей города — круглая дата — репетировалось торжественное шествие духовых оркестров. Грустный Тимоха зачарованно смотрел из окна как над площадью реет «кукурузник», рассыпая поздравительные листовки. Бело-голубые, они весело порхали в воздухе, опускались на асфальт, на деревья, на бескозырки матросов-оркестрантов, слетали в руки прохожих. Одна легла на крышу авто рядом с автобусом, и Тимоха разглядел на листке: якорь, перевитый цепями, имя города, и над ним — юбилейная цифра. У него сжалось сердце, когда он увидел как Гоша и Женя неспешно идут по улице. Один — глядя под ноги, другой — озираясь по сторонам. Ему отчего-то стало жаль их. Он кинулся открывать окно, чтобы крикнуть им что-нибудь дурацкое, бодрое, но автобус дернулся, все двинулось назад, поплыло, помчалось…
Через полчаса город был позади. Глядя в белый иллюминатор окна на волнистую линию сопок, за которыми в фиолетовых сумерках остался пребывать все более удаляющийся город, Тимоха подумал: … И как же… Да ладно! Я же буду их вспоминать.
Он достал из авоськи бутерброды. — Эй! Как тебя? — спросил он у впереди сидящего парняги. — Давай перекусим. На. Тут у меня куча всего.
— Перекусим, — сказал парняга.
… То, что Анастасия, моя сестра, может любить некоего человека, никогда мне не приходило на ум, и не пришло бы, если б не привиделось, как она стоит у окна (верней, у стены — близ окна), и прощальный свет ветреных, облачных сумерек падает на приподнятое к небу лицо, и она смотрит на единственное дерево, что видно ей из окна пустой, полутемной аудитории художественной школы. Дерево, высящееся лишь одной своей кроной, с последними, чудом удерживающимися на ней листьями, над двадцатиэтажным, сплошь стеклянно-бетонным зданием. И ветер дует, и ветви, качаясь, исчезают, но вновь восстают над крышей…
А я — из окон комнат, подъездов, и других мест, где случалось пережидать тоску и непогоды своей жизни, почему-то смотрел всегда вниз, обреченно надеясь, что та, кого люблю, вдруг да появится, случайно проходя по земле иль асфальту пространства, данного моему взору…
… Я был в том же твоем макинтоше, когда, находясь в грузовом самолете (какие до сих пор еще можно увидеть на аэродромах провинциальных авиалиний и в близком, подоблачном небе), сутулясь, вышел из кабины, и, отвернув колесо, герметично запирающее овальную дверь, вошел в грузовой отсек, освещенный солнцем, падающим за край пустыни. И стенообразная пластина трапа слегка приотворилась — настолько, что можно было схватиться руками за ее край, и, подтянувшись, смотреть в образовавшуюся щель, часто мигая из-за натиска ветра. И дыханье захватило от восторга тайны при виде простирающейся от горизонта до горизонта каббалистики руин ветхозаветного города, заметаемого волнами темно-розовой пыли. И подумалось, что вид руин не такой уж и древний. Еще я что-то подумал про «самый порог нашей эры».
И пилот за штурвалом — запыленный, небритый и горбоносый, время от времени пьющий из плоского термоса, иногда убирающий (почти что сцарапывая) со лба липкие волосы — не произнося ни слова, не напевая, щурит глаза безмолвно и оптимистично.
Друзья неторопливо прогуливались вдоль набережной. Темнело. Вечер был тих. Солнце катилось над линией горизонта. Нелюбин припоминал сегодняшний (второй по приезду с островов день). Пребывавшее в чистой прозрачной воде памяти пережитое, увиденное, беззвучно проплывало перед взором. В голове шумело тем шумом, который исчезает, если подумать о нем. (Так, бывает, шумит в голове по-осени, особенно в больших городах, когда ветер где-то вверху, а ты возвращаешься в сумерках к себе, а день был большим и разным, было много лиц и пейзажей. И голоса людей и гул транспорта кажутся долетающими из другой страны, и кажется: огни города на самом-то деле тебе лишь мерещатся, несбыточно грезятся.) С Гошей они ездили на электричке в пригород, в психиатрическую лечебницу — навестить Ильяса Зинатуллина. Но день был не приемный и они оставили санитару авоську с апельсинами для Ильяса и вышли. На обратном пути электропоезд остановился посреди хлебного поля и долго стоял, и двери открылись, и немногие пассажиры спрыгивали с вагонных ступеней, бродили по зрелому полю, а хмурое небо было иссиня-лиловым. За полем простиралось море и дул ветер, и рвал белый лоскут (вымпел? нательную рубаху?) с шеста, торчащего в одной из черных пирамид на угольной барже, примерно в полумиле. Разразился ливень, когда шли от вокзала по крутой улочке с зоомагазином, тем самым, где гошин брат вчера, в день отъезда домой, купил черепаху, и Гоша сегодня стоял у коробки, в которой ползали, натыкаясь друг на друга, черепахи, освещенные нерезким и теплым светом рефлектора… Под ливнем опрометью мчались через дорогу к кофейне. В кофейне происходило кришнаитское сборище. Невозможно было пробиться к стойке. Длинноволосые кришнаиты, многие во всем розовом или белом, нестройным хором пели «Харе-Раму» и звучали экзотические барабаны, и кофейный запах мешался с запахом сырой одежды, мокрых волос и каким-то восточным благовонием. И гошина знакомая — полная брюнетка — подошла к ним (Волкову и Нелюбину), и завязался разговор, и она достала записную книжку, и высчитывала сколько воплощений было у души Волкова (чтоб выяснить это, нужно было лишь назвать год, месяц, день рождения), затем — у души Нелюбина. Потом Игорь сказал дату тимохиного появления на свет. Подытоживая, Стелла сказала:
— Ну, что… Примерно одинаковый возраст души. В каждом из трех случаев — это последнее, ну, может быть, предпоследнее воплощение. От десяти до двенадцати раз души были на Земле. В третьем случае, вполне вероятно, и больше.
Когда она тараторила все это, глядя в блокнот, — постукивала авторучкой по кофейному блюдцу. Безрадостный Нелюбин отсутствующе смотрел на татуированного пегаса на запястье Стеллы. Татуировка была изящной, отлично выполненной.
… И полновесные апельсинные шары, и хлебное поле, над которым перехватывающий дыхание ветер носил неуемный мотив человеческой песни, и вымпел на угольной барже, и черепахи в струящейся теплоте искусственного света, и татуированный символ вдохновения, и люди, бегущие под дождем, и сам дождь — все излучало боль. Она фосфорресцирующе, хроникально моросила, и оттого все увиденное сегодня выходило за пределы своих очертаний…
А потом ливень угас и часа полтора было солнечно и ветрено. А затем и ветер стих. Закат догорал. В спокойном море было пустынно. Героические клубы облаков плавно скрашивались тьмой. По мере приближения ночи голоса прогуливающихся становились ближе и глуше. Вдалеке, у причала, сиял, переливался огнями теплоход, источающий усталое счастье вечернего джаза. Синя мгла неба обнимала море и землю. Оранжево-алый закатный клин на горизонте — острием вниз — горел, горел, словно исковерканный папоротниковый цветок или костер на ветру, и лениво вздымающиеся валы волн дробили, передавая друг другу, его отражение. Кто-то, обгоняя Волкова и Нелюбина, чиркнул спичкой, на ходу прикурил, пряча огонек в глубине ладоней. С моря подуло, деревья зашумели, и опять стало тихо.