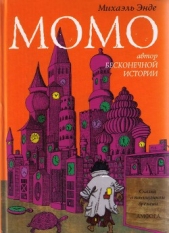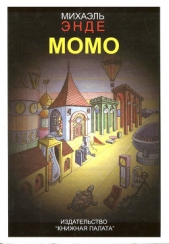Книга жалоб. Часть 1

Книга жалоб. Часть 1 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не люблю представлений новых книг. Всегда что-нибудь стащат с полок. Просто удивительно, до чего эта интеллектуальная элита нечиста на руку! Однако Чубчик и Весна назначили это рискованное мероприятие без моего ведома, так что мне не оставалось ничего другого как согласиться. Впрочем, раз автор на свободе, а книга его напечатана и поступила в продажу, я не вижу никаких причин, по которым он бы не мог её надписывать в магазине, где уже состоялись представления стольких изданий. Конечно, ни Весна, ни Чубчик не знали, кто такой Доктор, вернее, кем он был. Они родились и выросли уже после его падения, потрясшего страну, фотографии его с тех пор не публиковались, а имя не упоминалось. И его самого, и всё, что с ним было связано, начисто позабыли. И когда он через много лет стряхнул с себя наконец паутину официального забвения, напечатав свои мемуары под названием «Абсурд власти», то сразу же покорил этих двоих молодых людей, точно так же, как в своё время покорял широкие массы. Дело в том, что Весна и Чубчик впервые встретились с человеком подобного типа, который, едва перешагнув порог лавки, заполнил собой вcё ее пространство, подчинив его своей мегаломанской натуре прирождённого вождя. Несмотря на то, что его как политика уже давно сдали в архив, Доктор сохранил и горделивую осанку, и авторитетный вид человека, в чьих руках власть. Его хорошо продуманные свинцово-тяжёлые паузы в разговоре заставляли менее искушённых собеседников чем-то заполнять неприятную тишину, выскакивая со своими неуместными замечаниями, уверениями и глубокомысленными выводами, оставляя ему возможность вынести последнее и окончательное суждение о предмете беседы. Мощный бас и громоподобный смех, от которого со стеллажей валились книги, простецкое обращение ко всем на «ты», и дружеское похлопывание по плечу, от которого человек невольно приседал, сочные, со смаком рассказываемые анекдоты, в которых упоминались известнейшие люди эпохи, всё это в сочетании с авантюрным довоенным прошлым боксера-тяжеловеса и, естественно, пересыпание своей речи словечками из уличного жаргона, знание пяти-шести языков и открытое лицо гладиатора, испещрённое шрамами, притягивали всякого, оказавшегося в магнитном поле его неотразимого обаяния. Ореол поверженного памятника (о чём, казалось, напоминал даже сломанный нос) и затаённая неистребимая убеждённость в том, что он стал жертвой исторический несправедливости, которую сносит безропотно, оставаясь до конца верным своему жизненному предназначению, поза некоего антигероя заставляли всех в его присутствии чувствовать себя в чём-то виноватыми: то ли в том, что предали его своим молчанием, когда всё случилось, то ли в том, что даже не предприняли в знак протеста пoпытки самосожжения на площади Республики. По тому, как он без всяких усилий, в два счёта обработал моих молодых помощников, которые чуть ли не сами предложили ему устроить представление мемуаров, вне себя от счастья, что им доверено столь ответственное дело, можно заключить, что его всем известное обаяние не утратило силы. С другой стороны, как я уже сказал, Весна с Чубчиком принадлежат к поколению, выросшему в совершенно другое время, чем я; их восхищение Доктором — результат неосведомленности, простого недостатка сведений о людях и времени, когда новоиспеченный мемуарист был безжалостным вершителем судеб.
Современный доктор Джекил и давно ушедший в мир иной мистер Хайд могли бы написать действительно блестящие мемуары, работай они вместе. Но… мистер Хайд погрузился во мрак амнезии, а Доктор Джекил ни разу не вспомнил о нём на всех шестистах страницах — в книге он описывал исключительно солнечную сторону своей жизни, избрав смешанную форму мемуаров — социологического эссе-дневника-памфлета, чтобы поведать о том, что проделывали с ним, ни словом не обмолвившись о том, что творил сам. Доктор — разочаровавшееся дитя движения, фанатичный проводник определенной идеологии, некогда всеобщий любимец и активный деятель — обнажил во всех подробностях скрытый механизм власти, частью которого был сам, выставив себя жертвой.
Всё, собственно, началось довольно безобидно, когда товарищи послали перспективного Доктора в Соединенные Штаты на стажировку. До этого, Доктор несколько раз бывал за границей, в основном в восточноевропейских странах, и лишь однажды в Триесте, когда он ещё был разделён на зоны. Один его современник рассказывает, что в то время действительно верили, будто Запад заваливает Триест апельсинами, шоколадом, виски, бананами и кофе исключительно в пропагандистских целях, чтобы пустить пыль в глаза соседней Югославии, в то время как Рим, Венеция, Париж, Лондон, Нью-Йорк и остальные капиталистические города кладут зубы на полку. Как бы то ни было, через три года доктор возвратился из Гарварда бледный, но с горящим взором и стал публиковать свои странные статьи, которые вначале никто не принимал всерьёз, но лишь до той поры, пока из-за них не стали возникать крупные недоразумения. C ним несколько рас беседовали откровенно, по-товарищески, но Доктор, резкий и бескомпромиссный в тот период своей жизни, который успешно вычеркнул из памяти, остался таким же в отстаивании неприемлемых для его окружения взглядов. Он терял один пост за другим и наконец был насильно выпихнут на пенсию. Всё это описано в «Абсурде власти». Его бывшие товарищи направили к нему своих посланцев, чтобы те попробовали убедить Доктора не публиковать книгу (о чём по городу уже несколько недель ходят слухи), но он снова гордо отказался, твёрдо решив до конца нести свой крест, серп и молот.
Весна и Чубчик, разумеется, не знали, что ни один книжный магазин в городе не согласился организовать представление его книги, от которого он многого ждал, я же в то время, когда они договаривались об этом мероприятии, отсутствовал — разгребал пыльные залежи на книжных складах в поисках редких изданий.
Впрочем, их суетные проблемы были так далеки от меня! Надо сказать, что в то время все книги, в особенности политические, вызывали у меня глубокое отвращение. Имелись куда более серьезные темы для раздумий. «Кого-то она теперь целует?» — этот вопрос был лейтмотивом моих тогдашних пустейших дней, он возникал каждый вечер из опорожненной бутылки рислинга подобно джинну в «Тысяче и одной ночи».
24
В августе сорок седьмого я стоял в почётном карауле перед трибуной, на которой находился Доктор с товарищами. Один мальчик потерял сознание от солнечного удара. Он упал лицом вниз. Его место сразу занял другой мальчик с красным пионерским галстуком. Он был счастлив, что ему предоставилась возможность постоять в почетном карауле. На пыльном асфальте перед нами осталось маленькое пятно крови из носа. Кое-кто из ребят описался, стоя два с половиной часа по стойке «смирно», пика Доктор произносил речь, а усилители в разных концах площади отзывались вразброд запоздалым эхом, дробя его надтреснутый, жестяной голос. Никто не думал, что он будет говорить так долго, но, что бы ни случились, наставляли нас пионерские вожаки, мы должны стоять «смирно» всё время. На нас смотрит всё прогрессивное человечество! Мы должны помнить каково было нашим отцам и старшим братьям, стоявшим насмерть, до последней капли крови! Мальчик рядом со мной плакал от унижения и стыда, чувствуя, как моча стекает по его худым ляжкам. Эта давняя картина пахнет пылью, аммиаком и потом. Мне писать не хотелось. Я воображал себя стоящим насмерть, до последней, самой что ни есть последней капли крови. Только через мой труп враг сможет добраться до обожаемого Доктора! Я был готов погибнуть за него! Потом он надолго куда-то исчез. Я в то время не читал газет и поэтому не мог знать, что он навсегда сошел с трибун на улицу.
— Ты прочел? — спрашивает меня Доктор через тридцать четыре года в моей лавке.
Он говорит мне «ты», я ему — «вы». Я не формалист, однако чувствую себя при этом в несколько подчиненном положении, словно бы в роли прислуги. Интересно, как бы он воспринял, обратись я к нему тоже на «ты»? B этом «ты» кроется два психологических варианта: товарищеское, мужское ТЫ единомышленников, людей одного круга извлекается, когда нужно, из футляра взамен другого, пренебрежительного ТЫ, которым определенный сорт людей пользуется при обращении к крестьянам, носильщикам, лифтёрам, таксистам, словом, к тем, кто ниже их по званию, независимо от возраста. Для меня унизительно это словно извечно заданное соотношение двух наших карм, как будто ничего не изменилось за все эти годы, и я снова стою в почетном карауле перед трибуной, с которой вещает Доктор, и так будет во все времена. Я принимаю его «ты», оправдывая его перед самим собой тем, что он почти на тридцать лет меня старше.